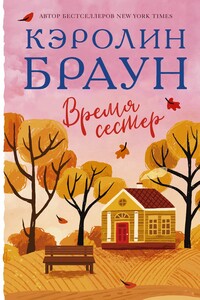Белый вахтёр | страница 17
Ночи становились все длинней и душней, а ласки уже давно стали жалеющими…
…Его собратья улетали на юг. Дюжими клиньями и редкими пунктирными полосками. Иногда они кричали ему из поднебесья: пора! поднимайся к нам, не оставайся здесь, погибнешь. Холодный ветер шевелил перья, но ничего вокруг не трогало душу, кроме однажды испытанного желания, — в день, когда он стал птицей, — иметь ребенка. Это желание было единственным, что давало смысл дням и ночам. Он сидел в чужом, оставленном кем-то гнезде, и ждал. Он не может просто так куда-то лететь, только потому, что, на взгляд пернатого племени, пора. Не они, крылатые послушники традиций, укажут ему путь. Это будет не зов разума, это будет клич того естества, которое сделало его птицей. И вот тогда-то он будет великим, особым рабом, вкушающим счастье от неволи!.. Итак, раз путь не назначен, значит, его пора не настала.
В минуты любования ночными красотами все чаще посещает мысль о том, что мы просыпаем самую чудную и чудотворную часть бытия — сказку. Она, жизнь-небылица, есть, но она недоступна уставшим за день, копящим в безмятежном сопении и храпе силы на преодоление завтрашнего тривиального, схожего с предыдущим дня.
Но это вообще; точнее сказать, — в лучшем случае. А если о нашем конкретном городе, то возникает вполне существенный вопрос: что мы, дневные реалисты, свершили со своим ночным волшебством?
Недавно я сделал несколько фотоснимков ночной перспективы, струящейся от моего окна. Я использовал замедленную, с большой выдержкой, съемку, которая фиксирует только статические предметы, подсвеченные слабыми световыми источниками — фонарями, прямоугольниками окон, — и неоновые, нитеобразные следы автомобилей (как будто радугу совлекли с неба, растрепали и уложили в пазы ночных улиц, не слишком заботясь о порядке). Такие фотографии запечатлевают только оттиски человеческой деятельности — архитектурные и световые. На них, как правило, нет ни людей, ни животных, ни автомобилей. Для меня это всегда картинки в миноре. Причем, в миноре положительном, в котором я, как сказано выше, творю, — населяя картинку придуманными существами с истинными коллизиями.
Известно, что страдание побуждает к творчеству.
Не воспитанный на доктринах теологии, много лет назад я взмолился, имея адресатом мольбы своего «аморфного» бога, властителя детских радостей, страхов, надежд, — вобравшего в себя все иконные лики с пронизывающими взглядами, все многосмысленные фигуры идолов, все вычитанные образы былинных волшебников и чудотворцев. «Какое доброе дело я должен совершить, чтобы ты снял с меня свое наказание?!» Конкретный и в то же время многозначный, как вердикт метафизики, ответ, на высокопарный от отчаянья вопрос, пришел достаточно быстро: «Страдание — семя радости. От каждого по возможности». Я задумался: ведь моя первейшая творческая возможность — литература. Значит, я должен селить добро в строки своих произведений, которые, сработанные с полной душевной и мастерской отдачей, смогут нести божьи искры в души читателей. (Справедливости ради: уставший от неопределенности своей вины и способа ее искупления, я просто не придумал ничего новее давно известного; но «ответ-вывод», с момента его появления, осенялся святым перстом, крылом, жезлом — на усмотрение моей недогматической фантазии.) Итак, в своей доброте, источнике добра, я уверен, — нужно только отсеять зло…