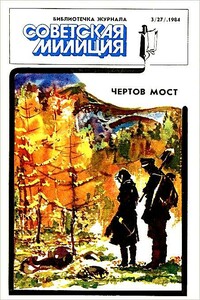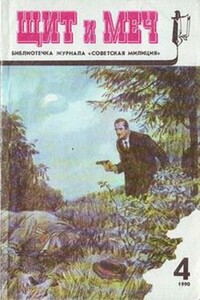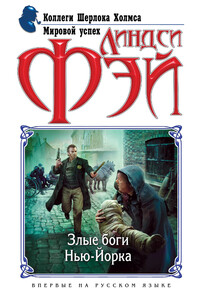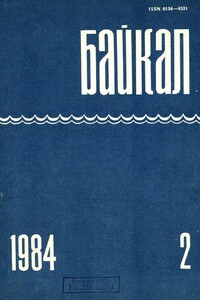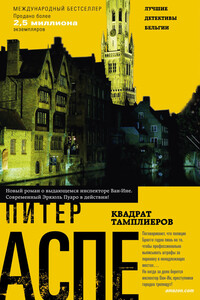Кайнок | страница 56
«Эмка» сбавила скорость, осторожно опустила передние колеса в глубокую колдобину и, рванув, выскочила на тракт.
— Скоро будем дома, — сказал Корней Павлович.
— Кто дома, а кому еще пилить и пилить.
— Не останешься?
— Приказано вернуться. Работы и там полно.
— Значит, если просить помощи, можно обжечься?
Нарочный, не меняя выражения лица, чуть заметно пожал плечами…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Он положил руку на деревянную вертушку, поддерживающую калитку, когда почувствовал спиной, как где-то далеко, в неопределенном направлении дрогнул в тишине морозный воздух. Сначала он не понял, что это такое. Пальцы продолжали поворачивать запор, но взгляд вдруг утратил обычную твердость, настороженно скользнул по сторонам.
По-прежнему над долиной висела тишина. Далеко, через три огорода, ровно шуршал и плескался Урсул. Его монотонность только подчеркивала тишину и покой ночи.
Пирогов оставил вертушку, повернулся лицом к хребту. Если это было, то было только там, внутри вычерченного им треугольника. Но какой смысл палить в темноту.
Еще не решив зачем, Корней Павлович медленно пошел вдоль улицы, прислушиваясь к собственным шагам. У подножия отрога остановился как вкопанный: местами шурша, местами клацая, с горы мчался невидимый камень.
По спине прокатилась холодная волна. Опасность исходила от осыпи, но и тот, кто шевельнул ее, оставался в вязкой непробиваемой взглядом темноте. Пирогов передвинул кобуру на живот, расстегнул кнопку, положил ладонь на холодную рукоять револьвера.
Камень пронесся стороной, влетел в заросли багульника и успокоился. И снова наступила тишина.
Почти не дыша. Корней Павлович выждал несколько минут, стал подниматься в гору. Он часто останавливался, прислушиваясь к темноте перед собой. Частыми, сильными толчками колотилось сердце от предчувствия непременной встречи с кем-то, кто не хочет, не желает встречаться с ним.
«Если это было, то почему ночью? — снова подумал Корней Павлович. — И почему так близко. Они ведь должны понимать… Или думают, что деревня спит?»
Не доходя до вершины, он снова затаился, всматриваясь в черную щетку пихтача, едва различимую на темном небе.
Ничто не нарушало тишины.
«Камень мог сорваться и сам», — успокоился Пирогов и все-таки пошел вверх, ориентируясь на кромку осыпи.
В пихтаче лежал неглубокий, насыщенный дневной влагой, а теперь примороженный снег. Он заскрипел под сапогами. Корнею Павловичу показалось, что от этого скрипа пробудились, вздрогнули пихты, зашевелились множеством неясных теней.