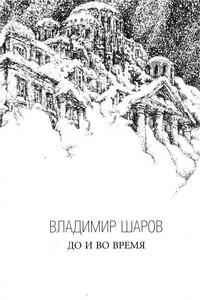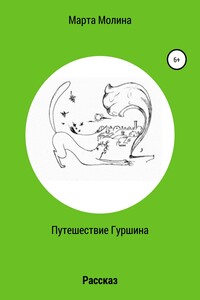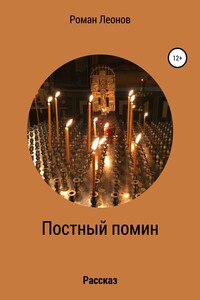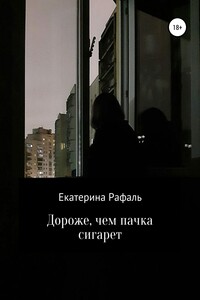«Мне ли не пожалеть…» | страница 92
Он говорил, что раньше в том, что они хотели предстать пред престолом Господним вместе, хором, со всем, что в них есть хорошего и плохого, он не видел ничего дурного, но после Бальменовой, когда понял, как мало в них раскаянья, когда понял, как сильна в них жажда, чтобы их грехи взял на себя, искупил ее Сын, он больше не верит им и он добьется, чтобы каждый каялся поодиночке. Все же я знаю, что иногда он жалел, что разрушил ту музыку, которая была в этих их смутах и неладах, в этой их вражде и любви.
Впрочем, жизнь его оправдала. Оказалось, что и когда они пели вот так, по-новому, это их собственное изначальное звучание уцелело, никуда не ушло, они и в самом деле были не скопищем, не сбродом, не толпой, а народом, хором. Это звучание было не только в поразившем его с первых репетиций исступленном желании покаяния, но и в той совершенно невиданной страсти, с которой они обличали мир. Все они: и скопцы с хлыстами, и народники – были убеждены в бесконечной, не имеющей никаких оправданий греховности земной человеческой жизни, в необходимости покончить с ней, уничтожить ее раз и навсегда. Сам Лептагов боялся такого понимания греха, потому что оно как бы их обеляло – все равно греховны и все равно должны погибнуть. Он был очень искусен и очень хитер, этот народ, раньше он прятал свой грех в себе – теперь же прятался среди других народов.
Их собственному звучанию Лептагов не мешал, хотя до конца своих дней считал, что первая задача хормейстера – не позволить хору слить голоса до их неразличимости в звуке, а наоборот, – провести голос певца через единый звук, не дав ему в нем раствориться, пропасть. Как пастух знает в стаде каждую овцу, он должен знать каждый голос; когда опасность – он может спрятать его среди других, но, едва она минет, он снова должен звучать так, будто он единственный во всей вселенной голос, говорящий с Богом. То есть хормейстер – поводырь своих голосов, он ведет их от рождения до смерти, и даже когда они соединяются и возносят общую молитву к Богу, все равно каждый голос в этой молитве – один. Ссуча нить звука, пробуя, крепка ли она, он не должен забывать ни о ком и не должен бояться, что она истончится до одного-единственного голоса.
Надо сказать, что позже Лептагов и сам часто не понимал себя, удивлялся тому, как резко, несправедливо и вне всякой связи с Бальменовой менялось его отношение к кимрскому хору. После войны он вспоминал, что было время, когда он снова думал, что эти организованные и худо-бедно обученные голоса никому не нужны; куда лучше просто толпа голосов и их ненависть друг к другу. Тогда пускай сколько угодно взывают к Господу, сколько угодно и как угодно. В те дни он безбожно их друг с другом мешал, тасовал, делал все, чтобы отнять у них пространство, свободу соединяться со своими и здесь, среди своих, ничего не боясь и не стесняясь, петь в полную силу. Он любыми средствами разрушал – даже если оно возникало случайно – традиционное расположение голосов в хоре группами, где голоса, дополняя и поддерживая друг друга, заставляют звучать хор во всю мощь. Тем более если он чувствовал, что они сговорились, начали сами так строиться, – тогда он разгонял их совершенно безжалостно, не слушая ни объяснений, ни оправданий.