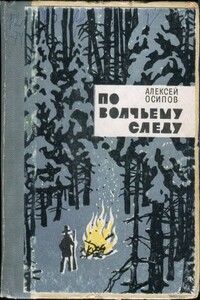Интернат | страница 61
Машина в тот день не сигналила. И впредь по субботам — тоже. Кому как, а лично мне казалось, что моя жизнь на один звук стала беднее. Печальнее. Не уверен, относилась ли печаль к Жениной музыке, но к протяжным родительским призывам, будоражившим интернат, относилась наверняка.
И баянист Женя Орлов, и Плугов с его мольбертиком — исключения из массы. Но один был изгоем, а другой, имевший к тому же отдельную комнату — какая пища для зависти и злобы! — изгоем не был. Его даже любили — как чудака, что ли. Молчит, малюет… Рисованье опять же на обоняние не действует: не хочешь — не смотри, не то что музыка… Все равно это плохо, когда нас любят как чудиков.
Попробуй разберись: где здесь уважение, а где — пренебрежение.
В первые послеинтернатские годы мне однажды довелось побывать и у молодого передового чабана нашего района Алеши Анотина. Хорошо помню его: мягкий, застенчивый парень со светлыми волосами, которые спереди чуть-чуть волнились, оставляя на лбу легкий, пушистый подлесок, как бывает у девочек или очень молоденьких девушек. Сидели мы с Алексеем в его недостроенном доме, беседовали, подсчитывали настриг шерсти, ее себестоимость. Ближе к вечеру он вдруг засуетился и смущенно объявил мне:
— Вы знаете, мне в клуб надо. Жена у меня там в хоре поет, а она ж видите какая… Проводить надо.
Жена у Алеши беременная, от ее живота в недостроенном доме становилось еще теснее. Домашние ходят, остерегаясь задеть ее, а она все потихонечку улыбается, как будто разговаривает с кем-то, только ей видимым и слышимым.
Провожать так провожать, я тоже пошел с ними. В клубе уже был кой-какой народ. За нами подходили еще и еще. Люди неторопливо переговаривались, счищали щепками у порожек холодную осеннюю грязь с сапог и ботинок. Когда хор собрался, в клубе появился молодой, цепкий, быстрый человек, почти подросток, в две минуты расставил людей на сцене, одному велел снять кепку, другой — поправить платок, прошелся вдоль хора, что-то где-то подладил — как хороший столяр последним, бесшабашным взмахом фуганка придает вещи законченный вид — пригладил собственный вихор и громко скомандовал:
— Начинаем!
Как же они пели! Я сидел в полутемном зале не один, здесь были еще какие-то разные люди, видать, такие же безголосые, как я, но большие любители пения, и в те минуты даже мы, случайные слушатели, примостившиеся в разных концах неуютного зала, чувствовали свою слитность, свое родство, как будто тоже были хором. Что уж говорить о хоре! Сцена освещена поярче, и я хорошо видел, как разгорались его лица, как развиднялись глаза деревенских старух, пришедших в клуб прямо с кухонь, в стираных передниках и фартуках, как тонкая печаль, та печаль, что является тенью высоких дум, трогала щеки молодых. Мой Алексей, оказывается, тоже пел — постеснялся сказать! — стоял в мужском ряду. Жена его была впереди, в основанье хора, и ее живот вносил на сцену такую же тесноту, как и в их с Алексеем недостроенное, но уже обозначившееся гнездо. Живот был центром, сердцевиной хора, и она пела, ласково придерживая его полными руками.