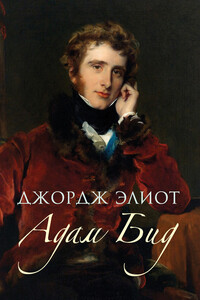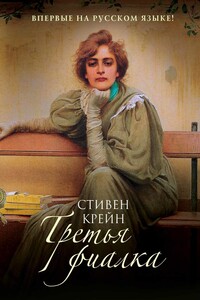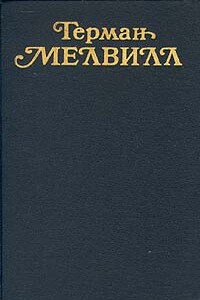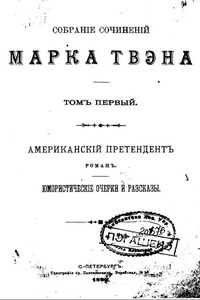Пьер, или Двусмысленности | страница 123
А шаги по комнате этажом выше между тем возобновились – они снова стали слышны.
– Должно быть, мне было девять, десять или одиннадцать лет, когда приятная женщина увезла меня прочь из большого дома. Она была женой фермера, и отныне моим домом стала ферма. Меня научили шить, работать с шерстью, прясть ее; и теперь я почти все время была занята. Эта занятость в том числе придала мне сил называть себя человеческим существом. С той поры я ощутила в себе удивительные перемены. Когда я видела змею, ползущую в траве и показывающую раздвоенный язык, я говорила себе: это не человеческое существо, а я – человек. Когда сверкала молния и поражала какое-нибудь красивое дерево, сжигая его дотла, я говорила: эта молния не человеческое создание, но я – человек. И так со всеми прочими предметами. Мне сложно выразить это словами, но неким таинственным образом я начала постигать, что все доброжелательные, пребывающие в добром здравии мужчины и женщины были человеческие существа, у них были свои различные цели и они жили в мире, где есть и змеи, и молнии, в мире, который полон ужасного и необъяснимого равнодушия. У меня никогда не было учителей. Все мысли росли во мне сами собой; и мне неведомо, были они связаны с той неразберихой, что царила в моей голове прежде, или нет, но они такие, какие есть, и не в моей власти переменить их, ибо не мне они обязаны своим появлением на свет, и я не трогала ни единой мысли в моей голове, и не было так, чтоб я испортила хоть одну из них, добавив к ней что-то от себя; но когда я говорю, язык не поспевает за мыслью, и я часто говорю что-то прежде, чем это обдумаю, потому порою бывало, что моя же речь учила меня чему-то новому.
Как и прежде, я никогда не спрашивала ни женщину, ни ее мужа, ни маленьких девочек, их дочек, о том, почему меня привезли в этот дом и как долго я в нем проживу. Такова я была, таковой себя помню с той минуты, как впервые открыла глаза, ибо вопрос, ради чего я появилась на свет, казался мне не менее странным, чем вопрос, зачем меня привезли в этот дом. Я не знала ровным счетом ничего ни о себе, ни о том, что имело ко мне малейшее отношение; я знала лишь то, как бьется мой пульс, мои мысли; но во всем другом я была невежественна, не считая размытых представлений об отличии своей человеческой природы от нечеловеческой. Но я становилась старше, и мой ум развивался. Я начала постигать значение окружающей меня обстановки, подмечать в ней все удивительные и мгновенные перемены. Я звала женщину матерью, по примеру двух девочек, и все же она целовала их часто, а меня очень редко. За столом она всегда подавала им еду в первую очередь. Фермер почти никогда не заговаривал со мной. Но пролетели месяцы, годы, и вот дочери фермера начали на меня таращиться. И тогда во мне проснулось прежнее, давно позабытое смущение, которым я страдала, когда на меня глазели одинокие старик со старухой, что сиживали у разрушенного очага в покинутом старом доме, стоявшем на круглом пустыре, что был открыт всем ветрам; смущение от тех былых настойчивых взглядов опять возвратилось ко мне, и зеленые глаза, и змеиное шипение злой кошки снова мне вспомнились, и темные волны беспросветного отчаяния сомкнулись над моей головой. Но женщина была ко мне очень добра, она учила девочек относиться ко мне с добротой, она звала меня к себе и оживленно беседовала со мной, и я благодарила – не Бога, ибо никто не рассказал мне о том, что есть Бог, – я благодарила красное лето и радостное солнце в небесах, кои рисовались моему воображению в человеческих образах, я благословляла человекоподобное лето и солнце за то, что они даровали мне эту женщину, и порой я ускользала из дому, и валилась в душистую траву, и славословила лето и солнце за их доброту, и после я частенько повторяла про себя эти два слова, что так ласкают слух: лето и солнце.