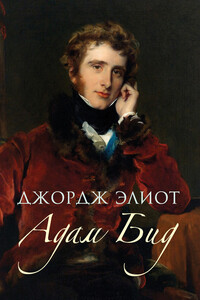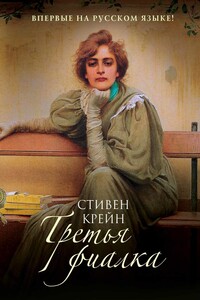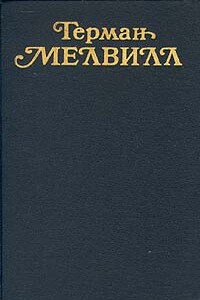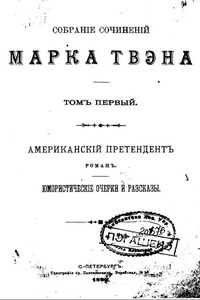Пьер, или Двусмысленности | страница 122
Ну, а теперь, как и в прошлый раз, ты давным-давно, гораздо раньше моих теперешних слов, уж сам догадался, что это был за второй или третий дом, в котором я проживала в ту пору. Но не произноси при мне это слово. Никогда не слетает оно с моих уст; и даже теперь, стоит мне только услышать его, как я затыкаю уши; когда я вижу его в книге, то отбрасываю ее от себя. Это слово для меня просто невыносимо. Кто доставил меня в тот дом, как я туда попала, не знаю. Я там прожила очень долго, только это я знаю; и я говорю, что я знаю, но в душе я до сих пор еще в том не уверена, все еще, Пьер, все еще не… о, все эти грезы, вся эта неразбериха – никогда они не оставят меня в покое. Позволь мне вновь умолкнуть.
Изабелла отодвинулась от Пьера, приложила маленькую сильную ручку к своему лбу, затем очень медленно провела ладонью по лицу сверху вниз, но едва коснулась рукою глаз, как прикрыла их, да так и осталась сидеть в этой позе, не делая более никаких движений и в мертвом безмолвии.
Затем она очнулась и продолжила свой туманный рассказ, полный ужасов:
– Мне следует быть краткой; я вовсе не хотела чуть что сворачивать то там, то сям на боковые тропинки моей истории, но грезы, о коих я уж не раз говорила тебе, порой руководят мною; и в такие минуты я словно лишена своей воли и подчиняюсь голосу грез. Будь снисходителен со мною, а я постараюсь быть более краткой.
Наконец пошли слухи, что обо мне в доме шел спор, некое разногласие, о коем я знала лишь понаслышке, а не из первых рук. Прибыли какие-то незнакомцы, или же их спешно прислали в дом. На другой день меня нарядили в новое и красивое, но все же простое платье и свели вниз по лестнице, вывели из того дома и усадили в экипаж рядом с женщиной приятной наружности, но совершенною незнакомкой; и меня увезли далекодалеко, мы ехали около двух дней, останавливаясь где-то на ночь; и вечером второго дня мы подъехали к другому дому, вошли в него и остановились в нем.
Новый дом был меньше в несколько раз, и мне казалось, что в нем царит восхитительная тишина, если сравнивать его с тем, прежним. В этом доме жил красивый ребенок; и это прелестное дитя всегда смешливо и невинно улыбалось мне, и всякий раз то для меня было в диковинку, что меня манят, чтобы поиграть со мной, и всегда-то он мне радовался, и всегда-то он был беспечен, приветлив и счастлив, стоило ему меня увидеть; этот прелестный малыш первым пробудил во мне самосознание, первым открыл мне, что я была существо, которое отличалось от камней, деревьев, кошек, первым разуверил меня в том, что все люди ведут себя как камни, деревья, кошки, первым даровал мне сладостные представления о том, что есть человечность, первым мне открыл, что такое бесконечное сострадание, нежность и красота человеколюбия, – и это прелестное дитя было первым, кто косвенно внушил мне туманную мысль о красоте и с нею вместе и в то же самое время – чувство печали, мысль о бессмертии и вездесущности печали. А теперь мне кажется, что я вот-вот запнусь на сем воспоминании… останови же меня сейчас, не дай мне идти по этой тропе. Я всем обязана прекрасному младенцу. О, как я завидовала ему, когда он со счастливым видом лежал у материнской груди и с ее молоком впитывал и жизнь, и радость, и всю свою бесконечную улыбчивость из ее белой и радостной груди. То дитя спасло меня, но вместе с тем даровало мне смутные желания. С той поры я стала мыслить самостоятельно, делала попытки вспомнить свое прошлое; но сколько бы я ни старалась – я могла вспомнить так мало, на ум приходила сплошная неразбериха… а за нею вслед и кутерьма, и сумятица, и темнота, и туман… и бушевал грозный вихрь всевозможных нелепостей. Позволь же мне вновь умолкнуть.