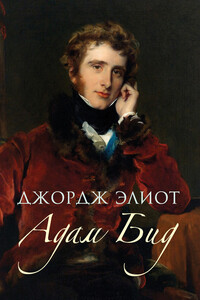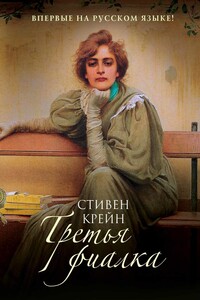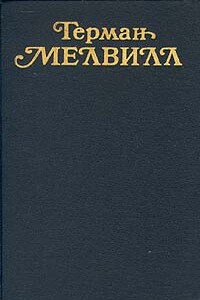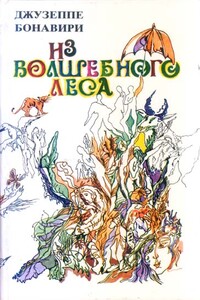Пьер, или Двусмысленности | страница 116
В том доме никогда не видала я ни одной живой души человеческой, лишь старика да старуху. От бремени прожитых лет лицо старика стало почти черным и походило на изношенную мошну, всю в складках, а его древняя борода, всегда нечесанная, была полным-полна хлопьев пыли и комков земли. Мне думается, летней порой он немного ковырялся в саду или на каком-то приусадебном участке, что примыкал к дому с одной стороны. Все мои воспоминания далее становятся сплошь неточными и запутанными. Но старик и старуха, казалось, запечатлелись в моей памяти неизгладимо. Должно быть, эти создания были единственными человеческими существами, что были рядом со мною в то время, вот чем объясняется то влияние, что они оказали на меня. Они редко заговаривали со мною; но иногда, в темные ненастные ночи, они могли сиживать у огня и таращиться на меня, а после принимались бормотать друг другу что-то, и затем они таращились на меня снова. Они со мной обходились не так уж и плохо, но, повторяю, почти никогда или очень редко бывало так, чтобы кто-то из них молвил мне слово. Что были то за слова, коими они обменивались, или на каком языке говорили они меж собою, этого мне уж не оживить в памяти. Много раз я того желала, ибо тогда получила бы дополнительные сведения о том, в этих ли краях стоял сей дом или же он был где-то за океаном. И тут следует сказать, что иногда мне приходят на ум, только вот не знаю, откуда берутся эти туманные воспоминания, – вскоре после той поры, о которой я сейчас рассказываю, – мой лепет на двух разных языках моего детства; один из коих ныне потускнел в моей памяти, в то время как другой и более поздний развился. Но далее я расскажу обо всем подробнее. Пищу мне приносил не кто иной, как старуха, ибо я никогда не ела с ними. Как-то раз они сидели вдвоем у очага, а подле них были каравай хлеба и бутыль слабого красного вина; а я поднялась к ним, и попросила разрешения пообедать вместе с ними и прикоснулась к хлебу. Но в тот же миг старик замахнулся на меня, как если б хотел ударить, и все же этого не сделал, а старуха, вытаращив глаза, схватила хлеб да бросила его в огонь. Я в испуге бросилась вон из комнаты и стала искать кошку, с которою я при помощи ласки частенько старалась завязать дружеские отношения, но – по некой неведомой причине – без всякого успеха. Однако мой страх одиночества был так силен тогда, что я снова кинулась на ее поиски – и нашла ее наверху, где она тихо рыла когтями что-то невидимое глазу среди мусора заброшенных очагов. Я позвала ее, так как не решалась вступить в обиталище призраков; однако она лишь взглянула на меня, искоса и глупо, и вернулась к своему тихому рытью. Я кликнула ее снова, и тогда она обернулась и зашипела на меня; и я что было духу понеслась вниз по лестнице, уязвленная и по-прежнему горячо желая, чтобы кто-то забрал меня отсюда и увез куда угодно. Я и поныне не знаю, куда мне направить стопы, чтоб освободиться от пут моего одиночества. Наконец я выбежала из дому да присела на какую-то каменную глыбу, однако вскоре я промерзла до костей да и поднялась с нее и вскочила на ноги. Но голова моя сильно кружилась, ноги не держали; я упала и не помню, что было после. Однако на следующее утро я очнулась в моей унылой комнате, в своей постели, а подле меня лежал ломоть черного хлеба да стояла кружка воды.