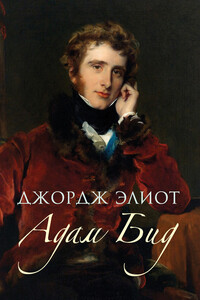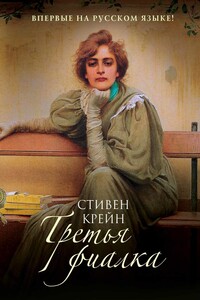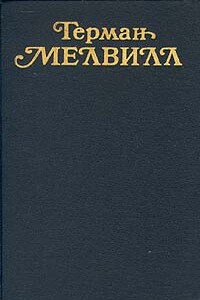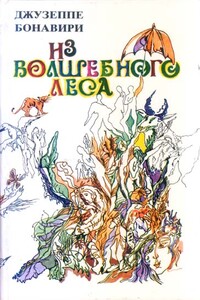Пьер, или Двусмысленности | страница 115
Тогда головка Изабелл склонилась к брату, ища поддержки, и крупные слезы закапали на его плечо; а вскоре Изабелл мягко отстранилась и выпрямилась рядом с Пьером, немного успокоившись.
– Если ты чувствуешь, как мысль твоя замирает на необъятном просторе, ибо она устремилась ко мне, сестра моя, то и я чувствую то же по отношению к тебе. Я и сам едва ли знаю, как мне должно говорить с тобой. Но когда ты смотришь на меня, моя сестра, ты видишь того, кто в душе своей уже дал незыблемые обеты быть для тебя во всех отношениях, до последней крайности, и во всех превратностях судьбы твоим защитником и всеми признанным братом!
– Ныне ты расслышал не один пустой шум общих фраз, но самую заветную песнь, что звучит во глубине моего сердца. Ты обращаешься к человеческому существу, а некое божество должно ответствовать тебе; божественные звуки некой флейты, что играет незримо, должны отвечать тебе, ибо нет сомнений, что твои совершенно невозможные слова, Пьер, нет сомнений, что они не остались неуслышанными на небесах. Блаженство, что далеко превосходит все земные блага, – вот что ждет тебя за это.
– Благословениям, как твои, не остается ничего другого, кроме как вернуться обратно да принести блаженство сердцу той, что вымолвила их. Я бессилен так благословить тебя, моя сестра, как ты благословляешь самое себя, славословя меня, недостойного. Но, Изабелл, если мы станем и далее говорить о первом потрясении при нашей встрече, то наши сердца вскоре покинет последнее мужество. Позволь же мне поведать тебе, кто таков Пьер, и какою жизнью он жил до сих пор, и как будет жить в дальнейшем; и тогда ты будешь во всеоружии.
– Нет, Пьер, это уж мой долг; за тобою право первым узнать мою историю, а после, если пожелаешь, ты разрешишь меня от своего великодушного дара. Выслушай меня теперь же. Волею незримых духов ко мне вернулись силы, но не восстановились вполне, Пьер, с ними не сотворить чудес. Слушай же, теперь я вполне овладела собою, чтобы начать свой рассказ.
Когда в их беседе возникали короткие, периодические молчаливые паузы, Пьер все время слышал мягкие, медленные, печальные, задумчивые шаги взад и вперед по комнате этажом выше; и в эти частые паузы во время необыкновенного рассказа, о коем речь пойдет в следующей главе, все те же мягкие, медленные, печальные шаги взад и вперед, задумчивые и самые меланхолические шаги то и дело слышались в безмолвии комнаты.
– Я никогда не знала смертной матери. Мои самые ранние воспоминания не оживляют в памяти ни единой черты ее лица. Если когда-нибудь моя мать и жила на свете, то уже давно отошла в мир иной, и ее тень не посещает земли, где некогда ступала ее нога. Пьер, мои уста, что ныне говорят с тобой, никогда не касались материнской груди, словно я не была рождена женщиной. Мои первые туманные размышления о жизни роятся вокруг старого, полуразрушенного дома, что стоял в некоем краю, для которого ныне мне не сыскать карт, чтобы указать его. Если такое место и впрямь существовало когда-то, то теперь его руины тоже, должно быть, исчезли с лица земли. То был заброшенный, мрачный, вросший в землю дом, стоящий посредине круглой расчищенной площадки на крутом склоне, на прогалине, прорубленной в дремучей чаще чахлого соснового леса. Я всегда сжималась от страха по вечерам, боясь ненароком посмотреть в окно и увидеть, что призрачные сосны крадутся ко мне, тянут свои зловещие руки, чтобы схватить меня и унести в свою ужасную тьму. В летнюю пору в лесу стоял неумолчный гул голосов неведомых птиц и зверей. Зимней порой его глубокие снега, словно бумажную карту, расчерчивали пунктирные линии ночных тропок неких четвероногих созданий, коих нельзя было заметить даже при солнечном свете и коих еще никогда не встречал ни один сын человеческий. На круглой, открытой всем ветрам площадке стоял тот мрачный дом, и ни одно зеленеющее деревцо, ни единый побег не осенял его; так он и стоял, не суля ни приюта, ни тени, в самой чаще, где были и тень, и кров. Иные окна дома грубо заколотили досками вверху и внизу; и те комнаты были всегда пустынны, и туда никогда не заходили, хоть они и зияли дверными проемами. Но много раз я заглядывала в них, стоя в гулком коридоре и обмирая со страху, ибо тамошние огромные камины совсем развалились; внизу камни топки, сожженные дотла, превратились в сплошное белое крошево, а упавшие сверху черные камни, засыпав сами очаги, валялись грудами и тут и там, все еще храня следы копоти от сильного огня. В том доме каждый очаг имел огромную вертикальную трещину, во всех комнатах прогибались полы, а снаружи его основание, что покоилось на низком цоколе, сложенном из позеленевшего камня, загромождали печальные горы желтых гниющих досок. Ни одного обозначения чего бы то ни было, ни единой разрисованной или исписанной вещицы, ни одной книги не было в доме, ни единой памятной записки, что могла бы поведать о прежних его обитателях. Тот дом хранил молчание, словно смерть. Вблизи него не было ни кургана, ни могильного камня, ни даже небольшого холмика, что невольно выдал бы погребение в прошлом взрослого или ребенка. И таким-то вот образом дом сей, который и после не разоблачил предо мною ни одной из своих прежних тайн, таким-то путем он ныне потерян для меня безвозвратно и канул в небытие, ибо мне уже никогда не воссоздать в памяти ни то место, ни тот край, где стоял он. Ни один дом из тех, что я видела в своей жизни после, не походил на этот. Один только раз мне на глаза попались гравюры французских шато, кои с новою силой пробудили в памяти туманные воспоминания о нем, в особенности же о его маленьких окошках в два ряда, выступающих из вогнутой мансардной крыши. Но тот дом был деревянным, а эти из камня. Тем не менее временами мне представляется, что он находился в нездешних краях, где-нибудь в Европе, во Франции, быть может, однако это кажется мне полною бессмыслицей, а посему тебе не должно меня опасаться лишь оттого, что я несу вздор, ибо что же еще мне говорить, коли речь зашла о столь вздорном предмете.