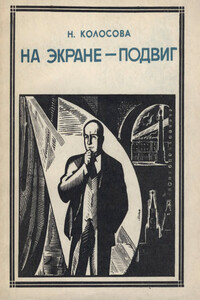Лепта | страница 49
— Но мы одно и то же думаем с вами, Николай Матвеевич! — обрадовался Александр. — Только что же вы художника позабыли упомянуть? Разве его картины не могут воздействовать на монарха, помещика и всякого человека?
Рожалин засмеялся:
— Те картины, что являют собой предмет для любования, не могут. Те, что дают работу мысли, — могут.
— Вот вы как повернули… Да, да. — Александр увял: опять его с Брюлловым сравнивают.
— А по-моему, — сказал Григорий, — если ты умеешь рисовать, натуру схватывать, то чтобы ты ни сделал — все будет хорошо, все к месту.
— И ты, Григорий, меня поддел… — совсем недавно Александр так же думал, а теперь…
Рожалин улыбнулся:
— Писатели и художники должны сообща действовать. И кто знает, не на первое ли место в этом действии надо поставить художника? Ваши картины доступны глазам каждого. А чтобы читать книги, надо быть грамотным… Много ли в России грамотных? Народ-то у нас неграмотный. Как писателю к нему пробиться? Надо грамоте сперва научить людей…
Он пожал плечами в недоумении:
— Я давно наблюдаю художников. Истинно говорю, я поражен, отчего вы не ведаете, какая власть дана вашему искусству? Каждый из вас может помочь человеку сделаться лучше. Картины ваши могут указать путь к лучшей судьбе. Истинно говорю. Разве не так? Отчего никто из современных художников не пишет такой картины? Художник — это тот же пророк Иоанн Креститель, указывающий заблудшим истинного бога…
Александр поднял глаза на Рожалина: тот словно прочитал его мысли, узнал, что он беспомощно ищет сюжет для картины, и подсказывает, где его найти.
Рожалин продолжал:
— Я четвертый год как из дому. Я уехал, чтобы разобраться в жизни… Любомудрие не исчерпывало потребностей моей души. Я увидел теперь: русская мысль в начале пути. Пока она копирует немецкую. Мы Шлегелю поклоняемся, профессорам Геттингенского университета… А у нас своя жизнь, свой барин и крестьянин, свои дали и шири, истинно говорю… Теперь я понял: все, о чем рассуждали мы с князем Одоевским{36} и Веневитиновым, — ребячество. Мы препарировали живую ткань искусства: «музыка — род», «живопись — вид», «поэзия — сущность». А искусство потрясает нас художественным образом. И музыка — сущность, и поэзия — сущность, и живопись — сущность, когда они воздействуют на наше сердце и разум, когда пробуждают желание жить возвышенно..
— Да ведь сюжета такого не найти, чтобы пробудить желание жить возвышенно, — вставил фразу Григорий.
— Как? — удивился Рожалин. — А разве вы ищете? Нет. Все замкнулись на Священной истории и пересказываете ее в красках: один лучше, другой — хуже. Уж в ней не осталось ни одного эпизода, который не был бы взят художниками.