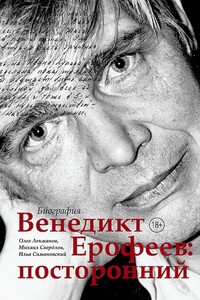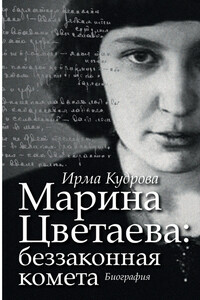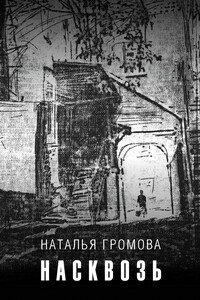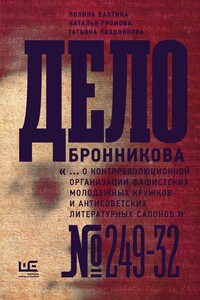Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы | страница 106
Может быть, чтобы смягчить боль, она ревностно обустраивает их с Юрием дом, их квартиру на улице Рубинштейна, 22. И даже когда начинается бомбежка, пытается вешать гардины на окна. Единственное, чего она больше всего боится, – что осколки стекла, разлетевшись от взрыва, поранят ей лицо. Она и в эти минуты остается женщиной. В письме к подруге Ирэне Гурской, где она описывает этот случай, звучат ноты тоски по утраченной жизни:
"А то, что мое жилье почти напротив старого моего дома, где мы восемь лет прожили с Колей, где ты в один мой страшный и счастливый день принесла мне букет красных гвоздик и бутылку молока (помнишь, в связи с чем это было, а?) – вся прошлая и далекая, и такая недавняя жизнь моя станет напротив моего нового дома, моего сегодняшнего дня, – и мне все кажется, что обязательно в этот старый дом, и что здесь все будет, как тогда…"[95]
Эти красные гвоздики и бутылка молока, скорее всего, связаны с днем освобождения ее из тюрьмы.
…"Блокада длится… Осенью сорок второго года ленинградцы готовятся ко второй блокадной зиме, собирают урожай со своих огородов, сносят на топливо деревянные постройки в городе. Время огромных и тяжелых работ".
Это не строки из газетных корреспонденций. Это своего рода эпиграф к стихотворению Берггольц "Ленинградская осень". Ольга читала его по радио 22 ноября 1942 года и после – на выступлении в начале 1943 года в ленинградском Союзе писателей. Любовь Шапорина отмечает в своем дневнике: "У О. Берггольц хороший образ: женщина тащит огромное бревно, из которого торчат гвозди, и ей, автору, кажется оно крестом, несомым на Голгофу"[96].
Христианская символика помогает Берггольц воплотить тему жертвенного страдания и искупления. Еще раньше, в стихотворении "Разговор с соседкой", она использует образ причастия:
И это тоже признак времени. В стихах той поры у разных поэтов неожиданно соединяются барабанные советские строчки с пронзительными словами, восходящими к плачам и надгробным рыданиям. Перед пропастью между жизнью и смертью интуитивно, безотчетно, словно сами собой вызывались из прошлого образы, уходящие в глубь народной традиции. В годы войны, когда и сама страна находилась на грани гибели, власть невольно приспустила вожжи – и в печати появились произведения, невозможные в конце тридцатых годов. Это не могло не тревожить литературных начальников низового уровня, увидевших в пробудившейся вольности определенную опасность. Ольге это еще припомнят.