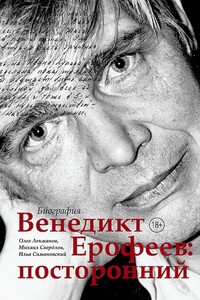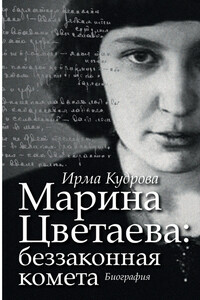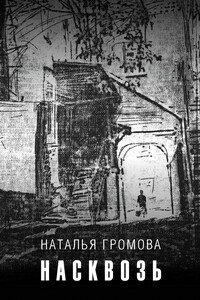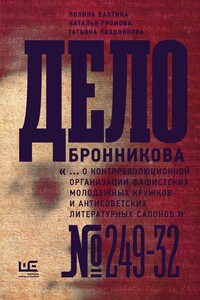Ольга Берггольц: Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы | страница 100
Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио "Февральский дневник", ни издать книжки стихов так, как я хочу. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. Мы изолированные, мы выступаем в ролях "героев", а lа "Светлый путь".
Я попытаюсь издать книжку (не ради себя!), и выступить, и читать свои стихи, где можно, но это на все 50 % напрасно, они все равно ничего не понимают, а главное – ни на миг это не исправит ничего!"
Ольга потрясена контрастом между умирающим Ленинградом и живой Москвой. Здесь было электричество, давались представления в театрах, звучала музыка из радиоприемников, работали кафе и рестораны.
Но всего ужаснее ее встречи с чиновниками. Первый заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д. А. Поликарпов на просьбу поддержать продуктами членов ленинградского Радиокомитета хамски ответил ей, что знает лично от товарища Жданова, что у ленинградцев всего хватает.
Она убеждается, что правды о Ленинграде не только не знают, но и не хотят знать – особенно начальство. Что опубликовать стихи и "Февральский дневник" будет трудно.
В письме к Макогоненко от 8 марта 1942 года она делится своими ощущениями от Москвы: "…Знаешь, свет, тепло, ванна, харчи – всё это отлично, но как объяснить тебе, что это еще вовсе не жизнь – это СУММА удобств. Существовать, конечно, можно, но ЖИТЬ – нельзя. И нельзя жить именно после ленинградского быта, который есть бытие, обнаженное, грозное, почти освобожденное от разной шелухи. Я только теперь вполне ощутила, каким, несмотря на все наши коммунальные ужасы, воздухом дышали мы в Ленинграде: высокогорным, разреженным, очень чистым… Я мечтаю о том, чтобы поскорее вернуться в Ленинград, я просто не могу здесь жить и не смогу, наверное…
…Мне кажется, что окончательно установила равнозначность, равноправие так называемого личного и общественного. Да, впрочем, при чем тут теоретические обоснования? Ты и Ленинград неотделимы для меня. Все остальные варианты (типа глубокого тыла, "работы в Москве" – постоянной) – это обкрадывание самой себя, вообще – ханжество и лицемерие, и – как бы все-таки объяснить тебе – страшное укорочение жизни…"
Макогоненко отвечает: "То, что ты пишешь о Москве, не только нехорошо – но и чудовищно. Но чудовищно – ибо все это прежнее… Нет, я очень не хочу потерять тебя. Я не хочу потерять такого счастья. Такое бывает только раз. Ты есть чистый воздух Ленинграда, который я так жадно, так весело, так явно глотаю. Я дышал тобой… Чудовищность в том, что ты уходишь от меня все дальше и дальше. И убедишь себя упасть в пропасть, и в пропасть тебе падать надо, чтобы освободиться от меня…"