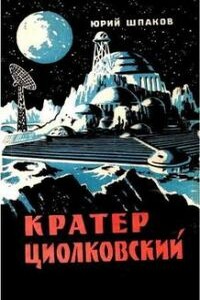День тринадцатый | страница 15
— Как бы тебе объяснить? — скучно посмотрел на нее Пирожков, явно жалея минуту «для наших милых дам». — Шить умеешь? Ну так это мы только наживили. Теперь сшивать будем.
А заморенный Арканя крикнул умоляюще:
— Принеси позавтракать, Юльчонок! Сил нет, брюхо подводит!
Они просили «позавтракать»! А был наверняка вечер…
Да, с четырнадцати десяти двадцать седьмого июля время в отряде перестало существовать. То есть смена дня и ночи все же происходила, солнце подымалось в зенит и сваливалось за горизонт, полуденную жару сменяла вечерняя прохлада, Юлька готовила ужины, обеды и завтраки, которые без остатка поглощались, — но не было уверенности, что все это происходит в свой черед.
Никто не подымался в шесть, не приходил обедать в двенадцать, не валялся после ужина на травке. Понятие «рабочий день» потеряло смысл. Ночью надрывно гудели и скрежетали на реке бульдозеры, ухала кувалда, мерцало зарево, свистел, подавая команды, Илья. Днем ребята приходили обедать — и замертво падали в траву, а пахучий таежный борщ простывал, Юлька бродила вокруг неприкаянной тенью и не знала, когда будить работничков и будить ли вообще. Утром она относила на мост завтрак, и, завидя ее, Арканя вопил: «Ура, ребята, ужин приехал!» А посреди ночи вдруг раздавался извиняющийся голос: «Дала бы нам пообедать, Юлька».
Или она прибегала звать их на кормежку, а кто-нибудь, чаще других Федя, просил: «Подмогни-ка, Юленька», — и она забывала, зачем пришла, — своими руками строила мост, только и слыша до темноты: «подай», «принеси», «подержи» — и никаких сопливых «пожалуйста». Илья хмурился, но молчал, не прогонял на кухню, где она «царь и бог».
Раз Юлька оставила им завтрак, чтобы не таскать туда-обратно тяжелое ведро, а когда вернулась через час, они уже пали вокруг опустошенной посудины, и так это напоминало поле брани, усеянное погибшими витязями, что она села в траву подле своего Ильи и дурехой разревелась. Жалко стало ребят… мальчишек. Почернел ее Илюшка, истончал, глаза провалились, губы искусаны. И тут, на этом поле сечи, позволила она себе уложить его сонную головушку на свои мягкие колени и гладить ершистые волосы — и никто не мог ей помешать, взглянуть косо, сказать худое слово или усмехнуться, потому что время остановилось.
Вздремнула ли она тогда, или размечталась, или не только время «испортилось», но и пространства сместились — привиделось ей, будто не возле Ои она сидит, держа Илюшкину голову на коленях, а где-то совсем в другом месте, тоже на лугу, только не под открытым небом, а под высоким лазоревым куполом из стекла…