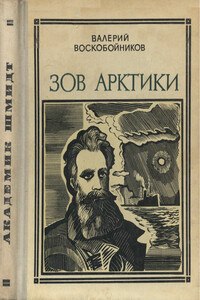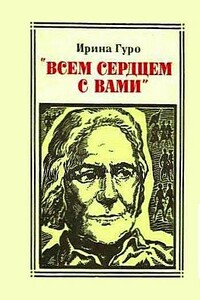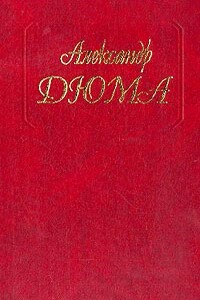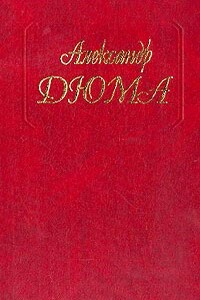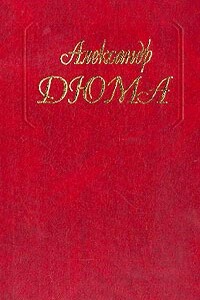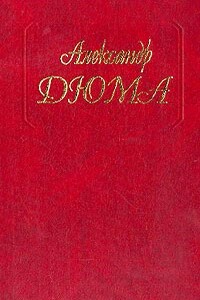Звезда мореплавателя | страница 18
Фернандо быстро освоился с ампольетами. Он мне рассказывал, что у него развилось какое-то особое «чутье на полчаса»: где бы ни был, чем бы ни занимался на корабле, он внезапно ощущал, что полчаса вот-вот кончатся, и стремглав несся переворачивать склянку.
То ли он сам выдумал, то ли его научили матросы, но он всегда пел при этом одни и те же бесхитростные песенки. После пятой склянки, помню, такую:
Барбоза мог подолгу рассказывать об Индии и Малакке, я с жадностью впитывал новые сведения.
Часами я размышлял над тайной, окутывавшей наш поход. Меня волновал и будоражил Магеллан. Он вызывал во мне чувство, похожее на чувство к отцу, хотя был всего на десять лет старше меня… Его прошлое, покрытое легендами… Уверенность и молчаливость, с которой он вел нас вперед… Намеки Альвареша.
Раздумывая над всем этим, я стоял у борта, там, где кормовая надстройка слегка от него отступает. В нише было безветренно и тихо. Взгляд мой упал на большую бомбарду поодаль и я заметил вычеканенные на ней слова: «Я скор и проворен; куда меня пошлет почтенный лозаннский совет, там я быстро кончу дело». Пушечные мастера обычно делали подобные надписи на орудиях, но я улыбнулся бахвальству: вряд ли совет швейцарского города намеревался послать свою бомбарду так далеко, как она уплывает с нами. И тут я увидел командора. Рядом с ним шел его слуга, малаец Энрике.
Этого раба и его жену Магеллан привез из Азии, и они всегда сопровождали его в Европе, даже на приеме у короля Карла, где Энрике задали ряд вопросов, на которые он вполне разумно ответил. Мне рассказывали, что по завещанию (все мы перед отплытием написали завещания) командор пожелал, чтобы в случае его смерти Энрике с женой получили свободу. Так распоряжались многие рабовладельцы: после смерти рабы не нужны, а отпуск их на волю — богоугодное деяние. Но Магеллан в завещании далее указывал, что свободу он предлагал Энрике много раз, однако малаец от нее отказывался.
Энрике был невысок, строен, на вид лет тридцати, со смуглой кожей, прямыми, блестящими от солнца волосами и толстыми губами на маленьком, всегда почему-то грустном лице. Его узкие руки проворно взлетали, когда он готовил еду для командора — обязательно публично, на виду у всех. Он также следил за его одеждой, каютой — в общем выполнял обязанности слуги. Подражая, вероятно, хозяину, Энрике был неразговорчив и хмур. С матросами он не сближался и поглядывал на всех нас с опаской, по-моему. Сделав свои дела, он усаживался около каюты и застывал а неподвижности. Иногда мне казалось, что губы его шевелятся — может быть, он молился или пел про себя?