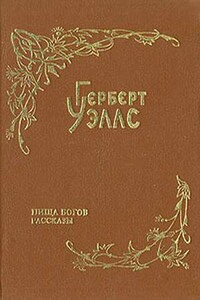Литературная Газета, 6621 (№ 46/2017) | страница 36
Всего и надо было – только два
Бесшумных оборота! И ключи
Долой! В траву! Попробуйте, найдите!
* * *
А между тем пока Господь,
Как музыкою, правит миром,
И света царскую щепоть
Во мглу протягивает сирым,
Какая тёмная тоска
Пронизывает, словно холод,
Всех, кто от царского куска
Своей же милостью отколот!
Не оглянуться впопыхах,
Туда, где прошлое маячит.
И ливень шелестит в стихах,
Как будто Бог над нами плачет!
Да будет свет!
Да будет свет!
Искусство / Искусство / А музыка звучит
Сцена из спектакля «Родина электричества»
Теги: искусство , музыка , Андрей Платонов
Андрея Платонова в Воронеже поют
Когда в далёком 1981 году композитор Глеб Седельников написал музыку и либретто к опере «Родина электричества», он не мог себе представить, что премьера этой важной для него работы состоится после его смерти, когда остальные произведения будут поставлены не только в родной России, но и за рубежом. Символичный дебют «Родины электричества» состоялся на родине одноимённого платоновского произведения, в нескольких километрах от Рогачёвки, в самом центре Воронежа.
Типичная платоновская история, связанная с электрификацией и строительством коммунизма, известна каждому, кто читал советского классика: бывший красноармеец просит крестьян отдать земли для строительства электростанции, над созданием которой в итоге трудится вся деревня Рогачёвка. В этом сюжете есть и серьёзные отклонения от авторского текста – Седельников объединяет сразу несколько рассказов: «Родина электричества», «Афродита», «О лампочке Ильича», а также фрагменты из брошюры Платонова «Электрификация».
Такой Платонов, переложенный на рифму, с символической коммунистической музыкой, идеально подходящей под прописанное автором время, ожил в Воронежском театре оперы и балета руками режиссёра-постановщика Михаила Бычкова и дирижёра-постановщика Юрия Анисичкина. Полуторачасовая опера, включающая в себя пролог, четыре картины и эпилог, переживается на одном дыхании: кажется, только на подмостки сцены вышли рогачёвцы, держа в руках подобие крестов и икон, а уже среди руин лежит огромная лампочка Ильича, вокруг которой стоят подавленные горем пожара местные жители – динамично, серьёзно и душевно, пожалуй, именно эти слова приходят на ум по финальному закрытию занавеса.
В постановке нет ничего необычного: деревенские жители, ничем не отличающиеся друг от друга, привычные Фрол и Евдокия, обычные постреволюционные будни и мысли, то и дело раздающиеся из уст отдельных персонажей, да только каждый герой остаётся в памяти, успевая раскрыться за непродолжительное время своего присутствия на сцене, которую вернее будет назвать электростанцией.