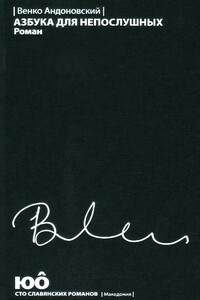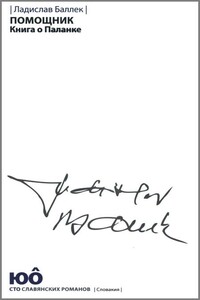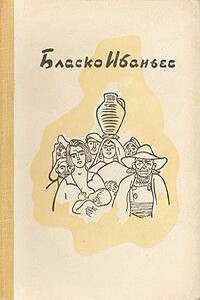Волчьи ночи | страница 99
Его не пригласили даже на спевки.
В тот день — кажется, это как раз был день святого Урбана, — когда стало смеркаться, Михник долго и сумбурно звонил в погребальный колокол. После этого они стали собираться перед колокольней. Пришли многие. И потом весь вечер, до глубокой ночи, завывали и гнусно бормотали в церкви, что звучало невероятно печально. Орган тоже было слышно. Рафаэль совсем недолго простоял перед колокольней. А потом предпочёл уйти. Какого чёрта!.. Он не хотел, чтобы его там видели. И потом не задавал никаких вопросов. Хотя в тот вечер он в самом деле собирался попросту стукнуть кулаком по столу и потребовать громкого и ясного ответа. Однако и потом, в ту же ночь, то есть, по всей вероятности, прямо на святого Урбана, снова раздался вой. Не в церкви. И не человеческий… Целую ночь он не сомкнул глаз. Правда, он пил… Но вой слышал наверняка.
Ветер доносил его из-за дубовой рощи.
Именно в ту ночь он вспомнил о проповеди. На него снизошло чувство сродни чистой, ясной небесной благодати. Оно полностью захватило его так, что потом он двигался, как в тумане, с одним-единственным обетом, с одной мыслью в голове, которая была и волнением, и беспокойством, и радостью, и бедой… однако прежде всего решимостью — твёрдой решимостью, которую ничто не могло поколебать.
На следующий вечер они снова завывали в церкви под аккомпанемент органа. Солирующий женский голос взлетал и падал, как на волнах. Слов было не разобрать, однако пение могло означать тоскливое одиночество на завывающем, колышущемся фоне. Состояние духа в свободном парении над унылой, завывающей бездной… Он стоял возле церкви. И слушал. И не осмеливался войти.
Днём ему тоже было не по себе. С каждым шагом, с каждой встречей с Михником или с Эмимой он чувствовал, что он им мешает. Любая необходимость выйти из кухни причиняла ему боль и отвращение. Больше всего ему хотелось бы забиться куда-нибудь. Они же приходили в кухню с полным правом, как хозяева. В любое время. И им не было до него никакого дела.
Поэтому днём он предпочитал уходить из дома, подолгу гуляя по вырубке позади церкви. Так было легче. В ветвях дубов каркали невидимые вороны. От холодного воздуха утихали и боль, и грусть, и то жалкое чувство беспомощности, которое злило и мучило его и которому он тщетно пытался сопротивляться, размышляя о проповеди — той самой проповеди, которую он пережёвывал снова и снова и которая снова и снова оборачивалась жалкой глупостью, которую он никогда ни перед кем не осмелился бы произнести вслух.