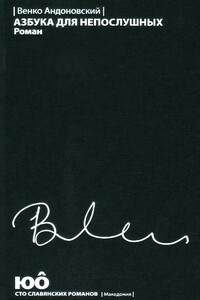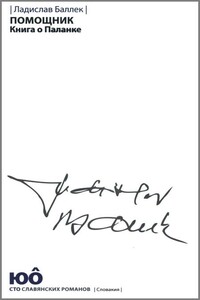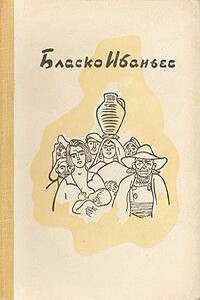Волчьи ночи | страница 98
Прежде чем войти в горницу, он постучал. Однако ответа не получил. Тогда он распахнул дверь и покрепче вцепился в кочергу.
Но комната была такой же, как прежде. И всё же не совсем такой же…
Исчезла собачья шкура с ухмыляющейся мордой. И эта пропажа зияла пустотой на столе, в горнице, в безмолвии. Хотя он и пытался объяснить себе, пытался поверить, что это Эмима вернулась, чтобы забрать шкуру, что это её он на самом деле видел в дверях, что она дуется на него и поэтому не поздоровалась, что всё это вместе взятое — совершенная глупость, что ему наплевать, что по-другому просто и быть не может… Хотя он был абсолютно уверен, что в этот раз точно, без всякого сомнения, запер дверь.
XIV
Время от времени ему казалось, что он ничего больше не понимает, потому что всё произошедшее как-то отодвинулось, прошло мимо — почти так, как будто на самом деле ничего и не случилось. Каким образом Михник и Эмима в ночь святой Луции вошли в церковный дом, несмотря на запертую дверь, он тоже не понимал. Утром он просто-напросто обнаружил их в горнице. И никто даже не упомянул запертую дверь. Поэтому он предпочёл оставить всё случившееся при себе. И в конце концов даже засомневался, действительно ли он запер дверь. И про собачью, а может, волчью, шкуру тоже предпочёл не упоминать. Она исчезла…
Правда, в эти дни он пил больше обычного.
В сущности, он чувствовал себя отвергнутым, обойдённым, даже ничтожным, и, так сказать, его уже списали со счетов, хотя вслух этого пока не говорили. Например, Михник проинформировал его, что впредь они будут звонить иначе… и не сказал как. Что же касается церкви — похоже, было уже решено, что жители деревни сами приведут её в порядок и украсят. Поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как изо дня в день хлестать жганье, а ночами пьяно и покорно надеяться, что раньше или позже Эмиме снова захочется близости.
Он часто думал, что нужно пойти к декану, но это было всё, на что хватало его сил. Потому что решиться было трудно, а мысль пуститься в дорогу по такому снегу и в такой мороз казалась скорее шуткой. Поэтому, безусловно, лучше было ждать и держать себя в руках в присутствии старика, который молчаливо и хмуро расхаживал по дому.
Таким одиноким и отвергнутым он себя никогда раньше не чувствовал. У него никого не было, никого он не интересовал, он даже самому себе надоел и мешал. И история с Куколкой всё ещё отзывалась в нём болью. Она только поиграла с ним — и оставила в дураках… Иначе он не мог думать: она была с ними заодно — и с Михником, и с Эмимой; возможно, все, кто был в трактире, организовали заговор, о котором он даже не догадывался, и таким образом мешали ему донести обо всём руководству. Не раз он собирался просто так с утра взять и заглянуть в трактир, и самолично во всём удостовериться, и высказать всё бесстыжей стерве. Это бы ни к чему не привело. И всё же… Он бы показал этим чёртовым отродьям, что может и готов в одиночку встать посреди трактира и решиться выступить один против всех, если так нужно, и что он может ударить, и чертовски сильно ударить. Потом они могли бы, пожалуй, его убить, да, и он чувствовал бы себя героем. И если бы он пал, то пал бы как мужчина, как герой — так сказать, как скала истины и достоинства…