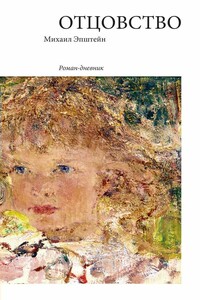Наука и религия: новые подходы к старой проблеме | страница 9
Попытка Типлера интегрировать космологию и теологию не вызвала глубокого сочувствия ни с одной из сторон — наоборот, натолкнулась на равнодушие и непонимание богословов и навлекла на себя критику научного сообщества, увидевшего в ней намерение не столько включить теологию в физику, сколько сделать из физики служанку теологии. Это свидетельствует не только о недостатках аргументации Типлера, но и о неподготовленности «двух культур» к взаимному пониманию, к поиску общего языка. Формальной вежливости и признания прав на сосуществование двух мировоззрений здесь недостаточо, а к глубинному концептуальному синтезу ни физика, ни теология пока еще не готовы.
5. Судьба телеологического аргумента
Среди пяти классических аргументов бытия Бога есть по крайней мере один, телеологический (греч. telos — «цель»), который не только не устарел со времен Аристотеля и Фомы Аквинского, но приобретает все большую весомость с каждым новым шагом науки. Это аргумент от целесообразности: в природе наблюдается такой высокий уровень упорядоченности, который заставляет предположить разумную деятельность ee Создателя. Самым сжатым способом этот аргумент изложил кембриджский профессор философии и англиканский священник Уильям Пейли (1743–1805), сравнив мироздание с часами. Если бы вы вдруг нашли в чистом поле часы, то, исходя из очевидной сложности их конструкции, пришли бы к неизбежному выводу о существовании часовщика. Популярнейшую книгу Пейли «Естественное богословие» (1802) Чарльз Дарвин перечитывал столько раз, что, по собственному его признанию, запомнил наизусть, и посвятил всю свою жизнь опровержению телеологического аргумента, разработав теорию ненаправленной, «бесцельной» эволюции, вслепую создающей упорядоченный мир природы без всякого вмешательства Верховного Разума. Казалось, что телеологический аргумент навсегда похоронен.
Его возрождение в науке XX веке начинается с А. Эйнштейна: «Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом… Эта глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства Вселенной и есть моя идея Бога». [12] Особенно поражает ученых целесообразное устройство человеческого организма, словно бы специально предназначенного для служения разуму и для творческого самовыражения личности. Один из величайших математиков XX века Курт Гедель полагал, что «формирование человеческого тела на протяжении геологических эпох по законам физики (или любым другим подобным законам), начиная со случайного распределения элементарных частиц и полей, столь же невероятно, как случайное разложение атмосферы на ее составляющие».