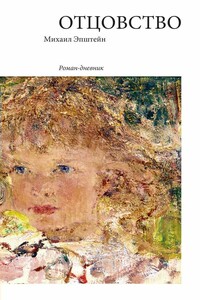Наука и религия: новые подходы к старой проблеме | страница 8
Значения фундаментальных констант, таких как скорость света, гравитационная постоянная, массы электрона и протона, настолько коррелируют между собой, что ученые называют это «тонкой настройкой», предполагающей роль настройщика. Отсюда и «антропный принцип» в физике, указывающий на целесообразное устройство Вселенной, обитаемой для человека и познаваемой для разума. Вселенная нуждается в наблюдателе, а потому все ее параметры подогнаны под развитие жизни и разума. По Джону Уилеру, «наблюдатели необходимы для возникновения Вселенной» (1983). Без разумных наблюдателей Вселенные не обретают статус реальности, поскольку только наблюдатель может осуществить редукцию квантового состояния, переводящую ансамбль возможных состояний в одно, реальное. [9] Иными словами, Вселенная соотносительна Сознанию о себе, которое, в качестве Вселенского Сознания, или Сверхразума, способного наблюдать Вселенную в целом, переходит уже в теологическую категорию.
Все это широко известно, но почему бы науке на примере этих физически достоверных фактов не найти общий язык с теологией? Собственно, первые шаги в этом направлении уже делаются, как свидетельствуют книги физика и математика Фрэнка Типлера, соавтора (вместе с Джоном Барроу) первой монографии по антропному принципу в космологии. [10] Не останавливаясь на антропоцентризме, Типлер в следующих своих книгах переходит к теоцентризму, предпринимая вслед за Пьером Тейяром де Шарденом попытку крупномасштабного синтеза математической физики и христианской эсхатологии. [11] Эволюция Вселенной, по Типлеру, ведет к ее постепенной интеллектуализации, предельному насыщению информацией и повсеместному распространению искусственного разума. Достигая в конце отмеренного ей астрономического эона Богоподобной Точки Омега, материальная Вселенная схлопывается в себя, но только для того, чтобы превратиться в гигантский компьютер, воспроизводящий уже как бы в зазеркалье самосознания всех когда-либо живших индивидов и их истории. Эта концепция всеобщего воскресения («физика бессмертия») напоминает философию общего дела — теотопию и технотопию Н. Ф. Федорова, хотя Типлер вряд ли осведомлен о нем, во всяком случае хранит об этом молчание. А в следующей книге, «Физика христианства», Типлер предлагает более конкретное физическое истолкование евангельских чудес, таких, как непорочное зачатие, умножение хлебов, хождение по воде и воскресение Иисуса Христа. Здесь выявляется чрезмерный буквализм в подходе к Священному Писанию, которое в типлеровском толковании превращается чуть ли не в сборник наглядных примеров по решению сложных физических задач. Сама программная установка ученого: «Пришло время включить теологию в физику, чтобы сделать Небеса такими же реальными, как электрон» — демонстрирует наивность и некоторую неадекватность его подхода. Все-таки Небеса не электрон, это реальность другого, метафизического порядка, и ее редукция к физике, хотя бы и в целях благочестивых и богоугодных, может вызвать такое же сопротивление верующих, как и атеистическое отрицание этой сверхреальности. Видимо, физике противопоказано не только «опровергать» метафизику, но и перелагать ее без остатка на свой язык, упраздняя тем самым необходимость аллегорического, символического, мистического толкования.