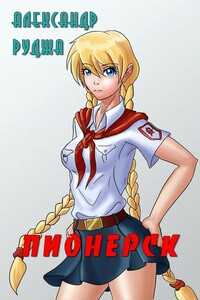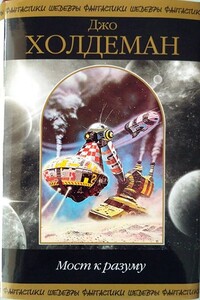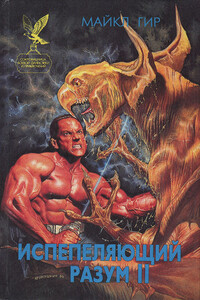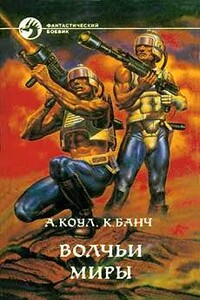Не чужие | страница 28
Алиса щелкнула и повалила ногтем пустой бумажный стаканчик.
— Ладно, парниша, не бери в голову. Сложно тебе будет дальше, после того, как я тебя отшила — но тут уж ничем не могу помочь, придется как-то справляться. Чувства — дело такое: сегодня есть, а завтра нет. Так что вот завтра и увидимся, кавалер — может, уже и полегче будет. А нет, так и нет. — Она выскользнула из-за столика, в секунду обернулась в свою курточку, фальшиво насвистывая «Кавалергарда век недолог…» и выскользнула за дверь.
Музыкальный автомат поперхнулся очередным электронным куплетом и сменил пластинку. Полилась размеренная, ухмыляющаяся гитарная рифма — где же ты, сволочь, раньше-то была?
Time donʼt fool me no more
I throw my watch to the floor, itʼs gone crazy
Time donʼt do it again now Iʼm stressed and strained
Anger and pain in the subway train
Itʼs a timing tragedy, I think itʼs nine when the clock says ten
This girl wonʼt wait for the out of time, out of time man
Было очень больно. То есть больно было всегда — на то и инвалидность, плюс Алиса, уходя, еще и двинула мне стулом по ноге. Но то была обычная, традиционная боль, обитающая на задворках сознания и потому вроде бы даже не ощущаемая. А здесь — что-то будто бы оборвалось в груди, прямо по центру, горячее и живое, появившееся, когда я увидел эту девчонку со смешными хвостиками. Оборвалось и упало на грязный бетонный пол, и только тихонько, неразборчиво подвывало сейчас. Никогда больше… и ведь так было всегда, а ты зачем-то понадеялся и… выставил полным кретином… дурак, дурак…
«Ничем не могу помочь».
Я медленно оделся и вышел. Еще по-зимнему холодный ветер нагонял медленный желтый смог, в носу защипал знакомый горьковатый запах, высохшая и зашершавевшая душа роняла в пустоту редкие соленые слезы.
Грудь болела и болела.
…Восемнадцатая скоба оказалась коварной — она решила вывалиться из стены только когда я ухватился второй рукой, налег всей тяжестью, без прочной точки опоры. Тогда-то она и заскрипела и подалась из стены, и саданула между делом по носу, и, вырвавшись из рук, с невыносимым в этой пустой железной банке грохотом улетела вниз. Я успел схватиться за какую-то из предыдущих, зато очень качественно приложился о нее с размаху ребрами. Внутри что-то чувствительно хрустнуло, и стало очень больно дышать.
И тут я впервые дал слабину. Я вообще-то избегаю того, чтобы кричать — это несолидно и бесполезно. Но общий груз неприятностей и смертной тоски достиг того уровня, когда мне оказалось плевать на все доводы разума, так что я просто орал от боли, уткнувшись лицом в глухую темноту, отзывавшуюся слепым металлическим эхом — орал, пока не сорвал голос. Руки, сведенные судорогой, не разжимались, ноги висели в воздухе бессильными деревяшками — хуже, чем деревяшками, пудовыми гирями — воздух заходил в отравленные легкие маленькими жгучими глотками. В отзвуках моего хриплого, с присвистом, дыхания слышалось порой чье-то недоброжелательное хихиканье.