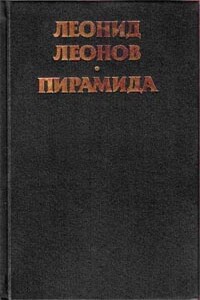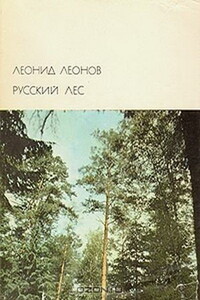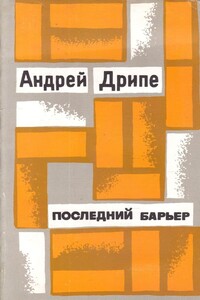Вор | страница 87
В прокисшем, слоистом табачном дыму, за зеленым сукном заправского игорного стола, стоял во весь рост Митька. Фирсов узнал его еще сзади по какой-то окаменелой прямоте спины. Общипанные и темные люди, любопытствующие или сочувствующие, с мрачным восторгом созерцали, как Митька проигрывал деньги небольшому еврею с очень грустным лицом. Неизменно выигрывая, этот поминутно прятал в карман свой выигрыш и порывался встать, и тотчас же какой-то человек из темноты (лампа низко свисла над столом, и углы пропадали во мраке) усаживал его на место небрежным нажимом в плечо.
— Не могу, не могу я больше… — кряхтел тот, обливаясь потом чрезмерного волнения.
— Пирман, банкуй! — тихо и повелительно звенел митькин голос.
И Пирман снова банковал, с новым отчаяньем выигрывая комканные митькины кредитки. Он чужд был митькина азарта, он пришел сюда заработать малую толику на пьяном воре, но ему безумно везло, и он проклинал свое шальное счастье, выдвигавшее его в герои вечера.
— И давно он так? — шопотом спросил Фирсов, забегая вперед, чтоб увидеть митькино лицо, но на него зашикали, и он остановился на месте.
— Двенадцатую тыщу крутит! — жалобно прошелестел Санька и, махнув рукой, огорченно выбежал из комнаты.
Прежде чем уйти отсюда, Фирсов успел приметить две вещи. Судорожно приподнятая бровь обнажала тусклый, серый митькин глаз. В пальцах, постукивающих по столу, было больше выражения, чем в этом спокойном, обесцвеченном болезнью лице. Запущенные бачки добегали до самого почти подбородка и грязнили щеки. Второе: достав деньги, Митька всякий раз поправлял крохотное голубое колечко на мизинце, повидимому — тесное ему до боли.
И вдруг Фирсов почувствовал, что все это необыкновенно и не повторится больше никогда. Лишь на перегоне двух эпох, в момент великого переустройства, возможны вот такие болезненные метания… да, да, оторвавшейся планеты! О, этот гнусный дым, дикие страсти, зарожденные скукой жизни, суматошный кутеж Пресловутого и грозное митькино издевательство над выигрывающим партнером — все это сверканья одного и того же махового колеса. Когда он выбегал в соседнюю комнату, где висел теноровый смешок Оськи, он расстегнул свою «фантазию»: воротник ему врезался в шею. — И верно: стремясь доставить посетителям полный домашний уют, Артемий не скупился на дрова.
XXV
Разгульно бледный, в синей шелковой рубахе, Донька дочитывал стихотворение о воре. Его стихи не блистали уменьем, ни даже вычурной рифмой, а, просто, он пел в них про свою незавидную участь, и, правда, чернильницей ему служило собственное сердце. Он читал про утро, в которое закончится его пропащая история и которое (— серенькое, гадкое такое)! будет ему дороже майского полдня. Тогда суровая рука закона поведет его, Доньку Курчавого — «как варвара какого иль адмирала Колчака»… Пили и поили поэта; и еще поили мелкорослого гитариста с экзематическим лицом, и тот безотказно пил в забвение своего удивительного дара. («В консерваторию готовился, а вот на свадьбах краковяки отмазуриваю!» — со скрежетом пожаловался он Фирсову, когда тот подошел похвалить его.) Потом он ударил по грифу коротышками пальцев, а Фирсов украдкой записал, держа книжку под столом: