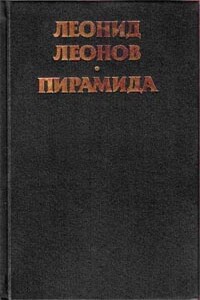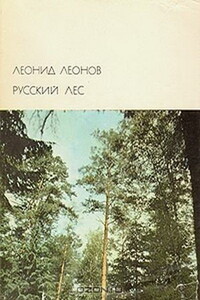Вор | страница 74
Пчхов вошел веселый, распаренный; проиндевелые волосы торчали из-под шапки. Быстро и решительно подошел он к Аггею:
— Чего удумал?.. — спросил он, быстро и решительно подпихнув Аггея к двери. Тот пошел не сопротивляясь, как очумелый. — Ступай и не приходи ко мне больше. Ступай — велю.
Когда он обернулся к Фирсову, тот сидел с бесформенным, разъезжавшимся от усталости, лицом. Ему противны стали слова, осквернившие ему ухо; он ненавидел свою записную книжку, где они притаились до поры. Бессмысленным, ослепшим взором глядел он в кружок света под лампой и не понимал ничего.
— Накурился, что ли? — сбоку спросил Пчхов, испытующе заглядывая за очки, полуспустившиеся с носа: лишь теперь доверился он Фирсову, должным образом поняв его подавленное молчанье.
XXI
Несколько дней Митька пропадал, и, уходя в пивную, Зинка сильней запудривала круги под глазами. (О, как она боялась утерять свое, еще не приобретенное!) В московской плутне пошли слухи о неудержимой митькиной гульбе, и это частично имело корни в подлинном происшествии, почему-то ускользнувшем от газетной хроники. В вечер, когда Аггей смущал Фирсова своей исповедью, было ограблено то акционерное предприятие, о котором Митька сговаривался с Аггеем при последнем свидании. Щекутин и курчавый Донька помогали Митьке в этом легком и выгодном деле. Впоследствии Аггею была отослана в конверте его доля — как за подвод. В крайнюю минуту благоразумие победило Митьку, и он не остановился перед нанесением подобной обиды Аггею.
Решение это Митька принял после тщательной проработки плана совместно со Щекутиным. Митька и встрече-то сочинителя с Аггеем способствовал ради отвлечения в сторону аггеева внимания.
Расставаясь с Фирсовым, он то-и-дело посматривал на часы, все же у него нашлось время посетить сестру. В письме, пересланном по городской почте, она звала его на первое, после долгого перерыва, выступление в московском цирке.
Представление протекало скучно. Безукоризненный до зевоты человек во фраке заставлял белую, с султаном, лошадь встать на колени перед публикой, но та черпала копытом песок и не хотела. — Митька поместился на галерке. Ружейные выстрелы самодельного джигита мешались с контрабандными клоунскими пощечинами, из моральных соображений запрещенными свыше, и деликатными хлопками публики. Митька рассеянно следил, как отражаются звуки в круглом сумраке купола.
В антракте Митька пошел в уборную сестры. Дежурный бейрейс, этакий костромской Иван, только обезличенный металлическими пуговицами, указал ему дорогу. Из-за дверцы, на которой такое скромное стояло цирковое имя Татьянки, раздался неодушевленный какой-то смех, точно на бумагу просыпали горох. Смех принадлежал бритому старичку в черной шапочке, сильно оттенившей его собственную бесцветность; он был, пожалуй, даже прозрачен на свет, такой он был вымытенький. Роясь в чемодане, он рассказывал что-то смешное, но смеялся только он сам. Сестра стояла посреди, в голубом трико, великолепно усыпанном по поясу голубыми блестками; женщина с безнадежными глазами и в сереньком массировала ей шею и плечи. Узкое зеркало, освещенное рядом неприкрытых ламп, отразило искривленное усталостью митькино лицо.