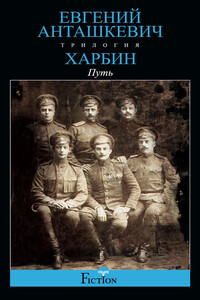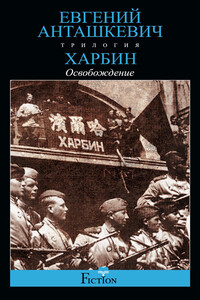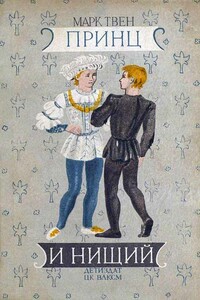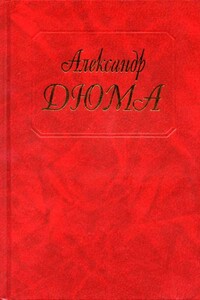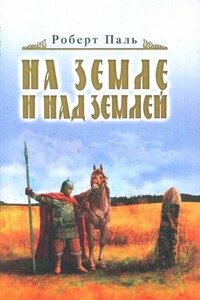Хроника одного полка. 1916 год. В окопах | страница 121
– Завтра, ещё надо кое-что доделать в управлении генерал-квартирмейстера…
– А мне уже не сидится…
– Понимаю!
– Да. Мы большую работу провели перед тем, как сюда приехать…
– Могу себе представить…
– Я в полном восторге от главкома…
Вяземский слушал.
– Во-первых, огромное внимание агентурной разведке, без этого никакие планы не составляются, у меня не то что в отпуск, а перечитать полученные бумаги нет времени, и техника, мы начали применять технику…
Вяземскому хотелось задать уточняющий вопрос, но он видел, что Адельбергу и самому хочется всё рассказать.
– Мы стали использовать фотографическую съёмку укреплений с аэропланов, делать это периодически с интервалом в несколько дней, когда погода, конечно, позволяет, делать наложения, представляете, все изменения как на ладони… Но это ладно, мы стали поднимать всю информацию на карту и делать фотоснимки в масштабе и передавать всё это на места, то есть наши командиры полков, вплоть до командиров батальонов точно знают, кто и что у них за линией фронта, какие инженерные сооружения, какие пулемётные гнёзда, где бетонные, где насыпные, сектора обстрела; на каком расстоянии друг от друга расположены линии укреплений, обрабатываем показания пленных, перебежчиков и языков, всё это поднимаем на карту, снова делаем копии и передаём…
– Полная картина, – подхватил Вяземский. Он вспомнил своё почти полугодовое стояние на Тырульском болоте и то, какую информацию он получал от разведки 12-й армии, практически никакую. Конечно, противника против себя им приходилось разведывать самим, и, хорошо, что соседи справа были, по сути, разведчики, партизаны атамана Пунина, с ними можно было обмениваться сведениями, что и происходило, а вот от соседей слева, от VI Сибирского корпуса, ничего не поступало, как будто они этой работы и не вели. Хотя, конечно, было ясно, какие разные уровни: разведка драгунского полка и разведка фронта, нечего сравнивать, и Вяземский с удовольствием слушал своего собеседника. И больше всего его волновало то, что со стороны своего начальства, что командующего Северным фронтом Куропаткина, что командующего 12-й армией Радко-Дмитриева, он не чувствовал, чтобы что-то планировалось, что-то готовилось, чувствовал другое, что его драгуны уже не те, война застряла в одном положении и насквозь пропиталась сыростью в одном окопе. В самом конце февраля его полк был передан в распоряжение 2-й армии Западного фронта, но из-за бардака на транспорте к наступлению они опоздали, и он только слышал об атаке через озеро Нарочь, и прибыли к тому моменту, когда наступление захлебнулось. 5 марта оно началось и превратилось в десятидневное побоище. Корпуса один за другим шли на германскую проволоку, всё сгорало в огне германской крупнокалиберной артиллерии. Русская полевая артиллерия была беспомощной против бетонных сооружений противника, войска увязали в весенней бездонной топи. Полки расстреливались у проволоки и на проволоке. I Сибирский корпус прорвал грудью мощные позиции 21-го германского корпуса, но, не поддержанный, захлебнулся. Небольшой успех был только в группе генерала Балуева, там 8 марта V корпус выбил немцев из их укреплений в Поставах. Бойня длилась до 15 марта и даже 1 апреля, пока, наконец, Ставка не приказала всё прекратить.