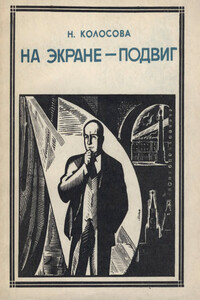«Этот ребенок должен жить…» Записки Хелене Хольцман 1941–1944 | страница 57
Я стала засыпать по ночам, перестала воспаленным слухом ловить каждый шорох, больше не вздрагивала от малейшего шороха. Мне перестало мерещиться, что за нами пришли и сейчас арестуют. Мое истерзанное сознание устало всякую ночь проходить один и тот же тягостный путь, и я падала на кровать, как кусок свинца, безразличная, отупевшая — наплевать, что будет, то будет, сил нет больше. И вот как раз тут-то они и пришли.
Ночью внизу стук в дверь, домоправитель отпер подъезд. Громкие голоса. Я вскочила, мгновенно оделась в темноте. Незваные гости уже барабанили в дверь. Никакого гестапо — литовский полицейский, тяжелый, угловатый, неповоротливый, как бревно, и с ним некто в гражданском. Кто такая, национальность, вероисповедание, кто муж, кто дочь? Вошли в комнату. Гретхен на кровати не пошевельнулась. Документы! Паспорт! Свидетельство о крещении! Залезли в шкаф, стали шарить по ящикам стола. Тот в гражданском долго и обстоятельно выводил: муж еврей, дочь коммунистка. На мою младшую, спящую тут же, ни один из них даже не взглянул. Все вопросы, опять вопросы, одни и те же, обо всем, вопросы, вопросы, вопросы, и все пишут, пишут, пишут. Потом встали и ушли.
Что это было? Зачем? Домоправитель говорит, нас уже спрашивали из криминальной полиции. Зачем опять одни и те же вопросы? Почему ночью? Ничего не понять. Но я почему-то не волновалась. Гретхен не спала, она все это время лежала лицом к стене и слышала каждое слово.
Однажды приходит к нам одна женщина: вы мать Мари Хольцман? Я, проходите. Она дрожит от волнения: не найдется ли сигаретки? Пожалуйста, вот, курите. Закурила, немного успокоилась. Она сидела в тюрьме вместе с Мари: в Германии ушла от мужа-немца к еврею, уехала с ним в Каунас и была бесконечно с ним счастлива. Ее камера была рядом с камерой моей дочери. Виделись каждый день, подружились, излили друг другу душу, поведали каждая о своей беде, стали посылать одна другой письма из камеры в камеру.
28 октября обеих заперли в отдельную камеру, и с ними — еще одну еврейку. Не к добру это, забеспокоились. Тюремщица подошла, говорит: «Бедные вы, бедные, теперь уже и я вам ничем помочь не могу». Не спали всю ночь, старались поддержать друг друга, шутить. Наутро их выгнали во двор, а там — полно народу, в основном — евреи. Ну все, конец!
Тут наша гостья, сокамерница моей Мари, увидела знакомого переводчика, что работал в гестапо. Кинулась к нему: помогите! Он вступился, женщину отвели обратно в тюрьму. Моей дочери никто уже не мог помочь. Она лишь просила соседку передать последний поклон матери и сестре, просила сказать, что любит нас всем сердцем