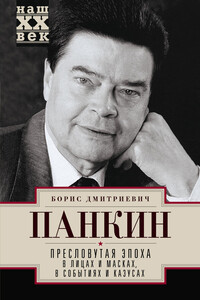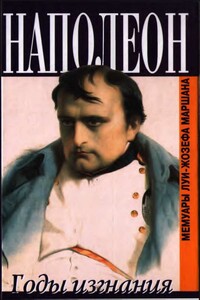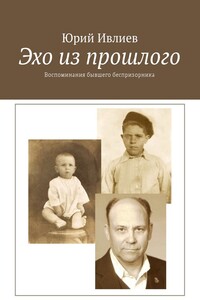Точка отсчёта | страница 9
Константин Михайлович рассказывал о треволнениях, связанных с созданием этой вещи, отвечал на приветствия, отшучивался, и в этот день так часто, как никогда раньше, я слышал знаменитый симоновский смех. Смех от наслаждения содеянным, оттого, что удалось еще что-то пробить. Очень многое стояло для меня за этим молодым смехом преждевременно состарившегося внешне Симонова. Смех этот напомнил мне о том Константине Симонове, которого я, собственно, и не знал, о котором только слышал, которого мог вообразить себе по фотографиям ранних лет, в частности и той, впервые с усами и в подполковничьих погонах, о которой мать писала ему в Москву из Перми: «Появился задор, что-то вроде самолюбования и горделивого удивления на себя со стороны: вот он я!» (Переписка К. М. Симонова с родителями готовится к публикации Л. А. Жадовой.)
И подстегнутый этим его прекрасным настроением, вновь явившейся бодростью, я отважился в бочку меда капнуть каплю дегтя. Я сказал Константину Михайловичу, что одно место в его передаче, несколько слов в ней меня, ну, покоробили, что ли... Это упоминание о том, что Сталин в критическую минуту велел оставить Булгакова в покое... Может быть, так и было. Но что же получается? Все кругом не понимают, и только Сталин приходит на помощь. А между прочим, сама атмосфера-то была создана...
Константин Михайлович зябко поежился, но, помолчав, сказал, что тем не менее действительно так оно на самом деле и было — именно благодаря Сталину Булгаков продолжал жить в Москве и писать. И молодец Булгаков, что в отличие от других не задумывался, что с ним может быть завтра.
— Почему Сталин так относился к Булгакову? — продолжал Симонов.— Он ценил храбрых и чувствовал это в Булгакове. Так же как в Фадееве.
Константин Михайлович приводил немало других реплик, резюме, указаний Сталина по различным поводам, нередко действительно поражавших, во всяком случае в мастерском пересказе Симонова, неожиданностью и какой-то даже своеобразной мудростью, которой он и теперь, когда у него уже не оставалось никаких романтических иллюзий в отношении этой фигуры, не мог не воздать должное, следуя своей обостренной до предела добросовестности. Что же касается той опасности, которую, по свидетельству моего собеседника, Сталин нес в себе ежедневно и ежечасно для каждого из тех, кто с ним соприкасался, то в ту давнюю пору она, как мне представлялось, выглядела в глазах Симонова стихией характера, которая капризна и может и одарить и покарать в одно и то же время.