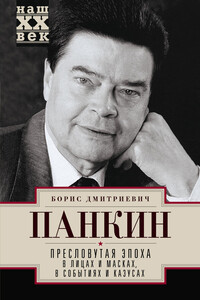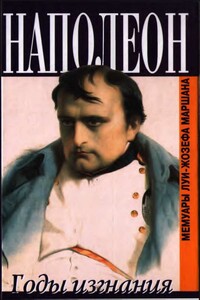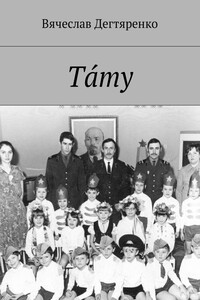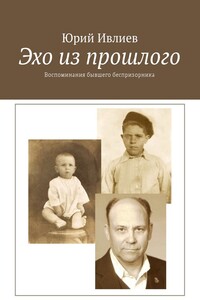Точка отсчёта | страница 8
— Вот приеду в Москву и недели через две зайду, занесу, должны выйти одним томом мои лопатинские повести.
Я уж давно заметил, что, когда Симонов заговаривает о своем творчестве, речь его становится как бы невнятнее — он глотает окончания одних слов, проборматывает другие, повторяет без особой нужды третьи.
— Специально собрал эти повести под одной крышей... Назвал романом. Так называемая личная жизнь... Хочу, чтобы кто-то прочитал их подряд, только так, знаете ли, разом, залпом,— он повел рукой наискосок сверху вниз,— и сказал бы,— тут он кашлянул,— стоит ли дальше писать беллетристику.
Он снова поднялся и, не давая мне возможности ответить, не говоря более ни слова, двинулся к дверям и вышел, обернувшись на мгновение с порога, глянув глазами, которые все больше начинали походить на глаза замученной птицы.
Я вспомнил в те минуты, как несколько лет назад спросил его, почему он перестал писать стихи. И он ответил как-то очень просто, непринужденно, как бы об отболевшем, что стихи нельзя писать, если потерян «нерв любви».
— Лирические стихи я имею в виду,— добавил он после обычной для него паузы между фразами.— А в иных тем более смысла нет, в моем-то возрасте...
Случилось так, что книжку свою он сумел передать мне только через два месяца, когда мы вновь оказались рядом — пациентами одной больницы.
Сговорившись предварительно, мы в урочный час встречались в больничном дворе и прогуливались ежедневно по часу, а то и по два на протяжении двух примерно недель. Говорили о разном, и разговоры были достаточно сумбурными, что, наверное, неизбежно в таких ситуациях. Возвращаясь, однако, позднее мысленно к этим дням, я убеждался, что была в них своя логика, свой лейтмотив, и предложен он был, конечно же, Симоновым, который теперь еще острее, быть может, чем два месяца назад, нуждался не то что в собеседнике, а в выверке на слух каких-то итоговых своих размышлений.
В один из тех декабрьских вечеров показали по телевидению подготовленную Константином Михайловичем передачу о Булгакове. Она была первой из задуманного им цикла «Литературное наследие», трудно, по его рассказам, делалась, долго «лежала», и ее демонстрация доставила ему, это чувствовалось, глубокое, что-то отпускающее, распрямляющее в душе удовлетворение. Передачу эту, конечно же, смотрели все, и когда мы утром встретились на обычной своей прогулке, не было такого больного, а Симонова узнавал каждый, кто бы не поздравил его с успехом, не поблагодарил или просто не покачал бы головой: ну, мол, и ну...