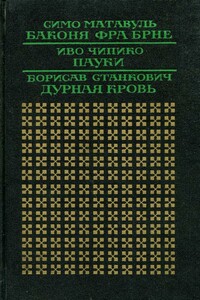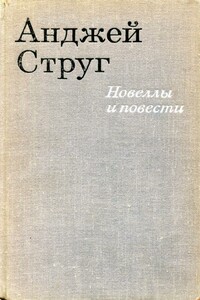Дурная кровь | страница 102
— Нет, дочка, нет, Софка! Сюда нельзя. Тут люди грубые, пьяные.
— Ничего, ничего, папенька!
— Нет, нет… зачем тебе сюда? Не надо. Тебе здесь не место.
Но Софка не сдавалась.
— А я хочу… Зачем? Хочу, да и только! — И она, зная, как он будет этим поражен, со счастливой улыбкой наступала на него.
— Хочешь? Любишь нас? — И, нагнувшись к ней, Марко стал пристально вглядываться в ее лицо, стараясь убедиться, в самом ли деле она любит его и его родичей и поэтому хочет быть с ними или говорит все это потому только, что так полагается.
Софка поняла и, чтобы раз навсегда покончить с его сомнениями, разуверить его, прикинувшись оскорбленной, со слезами в голосе стала укорять его:
— Полно, папенька, за кого ты меня принимаешь? Если бы не любила, разве я пришла бы сюда, пошла бы замуж?
— Ну, дочка! — И, окончательно убедившись, что Софка в самом деле их любит, Марко, обезумев от радости, повернулся к гостям, и в первую очередь к самому старому, почти слепому деду Митре, сидевшему во главе стола:
— Дед Митра и вы все, готовьте дары, моя сношенька идет вас потчевать!
Радостные и глубоко тронутые тем, что Софка, как водится у крестьян, идет их потчевать, гости поднялись и встретили ее поясным поклоном. Обрадованные женщины, почувствовав себя после прихода Софии совсем непринужденно, окружили ее и стали помогать ей. Обряд потчевания состоял в том, что, прежде чем протянуть стакан или баклагу, надо было каждому поцеловать руку, подождать, пока он выпьет, и снова поцеловать руку, а затем уже переходить к следующему. Потчуя, Софка касалась губами грубых и узловатых рук новых родичей, чувствовала на своем лице прикосновение их усов, бороды и волос, а сквозь шальвары и шелковые безрукавки — уколы их грубых ворсистых одежд. Женщины сначала робко, а потом все смелее гладили Софку по спине, плечам и крутым бедрам, восторгаясь ее красотой…
XXII
А сама была виновата. Знала ведь, что не следует так поступать. Но постепенно увлеклась и забылась, потому что, смешавшись с крестьянами, непрестанно потчуя их, она чувствовала, что, отбросив все, что в ней было хаджийского и городского, став с ними на равную ногу, она осчастливила новых родичей, вернула им свободу. От счастья они не знали, что и делать. Старики ей низко кланялись и, как дети, благодарили за то, что она не погнушалась ими. Принимая из ее рук огромные кубки, они выпивали их залпом. Теперь все свои и можно было веселиться, кто как умеет.
Они уж не боялись досадить кому-либо и требовали, чтобы цыгане играли и пели одну и ту же любимую песню: