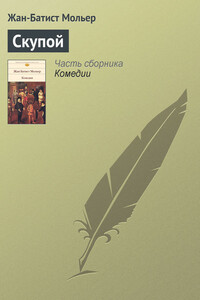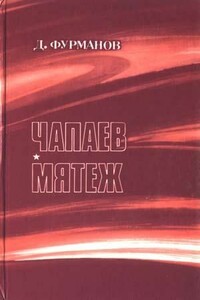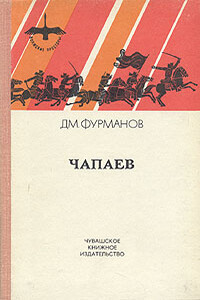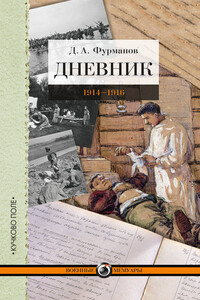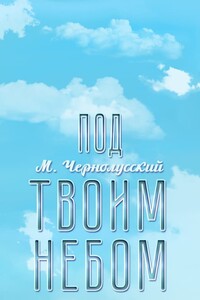Чапаев. Железный поток. Как закалялась сталь | страница 5
«— Товариство! Нам нэма с чого выбираты; або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма, брать треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси, как один. — Он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: — Колы вси, как один, ударимо, тоди дорога открыта до наших.
То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали:
— Як один!! Або пробьемось, або сложим головы!»
В таких решениях кроется великая сила и красота, спадает полона отчужденности, недоверия с глаз людей, возникает содружество сотен и тысяч людей, естественным моментом жизнедеятельности становится способность ставить общее выше личного, жертвовать собой ради успеха всенародного дела.
Никто не может приказать народу строите, чем он сам себе прикажет, поняв свою цель. В этих добровольно принятых решениях, в этой свободе расставания с прошлым — сам дух революции, источник той энергии, которую Ленин называл «праздничной». «Мы окажемся изменниками и предателями революции, если мы не используем этой праздничной энергии масс и их революционного энтузиазма для беспощадной и беззаветной борьбы за прямой и решительный путь»[3],— писал вождь революции задолго до Октября. Именно всемерное развитие сознания свободы могло удержать воодушевление бойцов на высоте исторического подвига. Именно потому Кожуху удается восстановить дисциплину, сформировать монолитный отряд, что он чрезвычайно дорожит свободой действий народа, его самостоятельностью в выборе дорог и средств борьбы.
В наибольшей степени именно эти добровольно принятые решения, а не сама по себе опасность, непосредственные схватки с врагом укрепляли, сплачивали бойцов Кожуха, превращали толпу в народ, в коллектив нового типа.
В повести А. Серафимовича, в его ярких народных сценах, митингах, в картинах ночевок, напоминающих стойбища кочевников «густотой быта», в шествии колонн есть одно удивительное свойство: ощущение «тесноты», плотности, множественности людских масс. Кажется, что при всем изобилии героев, при всей объемности и масштабности картин весь народ никак не может уместиться на полотне.
Есть только один великий мастер изображения народной стихии, на полотнах которого народу столь же «тесно», — это Василий Суриков. Причем, как отмечали исследователи, тесно не где-нибудь в келье или глухой башне, а на просторе Красной площади или московского двора, на бескрайней сибирской реке, на Иртыше, наконец, на альпийском перевале или вовсе уж безбрежной равнине («Взятие снежного городка»). Этой «теснотой в беспредельном просторе» художник как бы подчеркивал накал скопившейся в душе народа удали, всю страстность мечты о просторе, кипение бунтарской тоски по волюшке, протестующей против закованности и смирения, запечатлел всю жажду сломить преграды, теснившие народную душу. «Скудные пределы естества» извечно тесны для русской души.