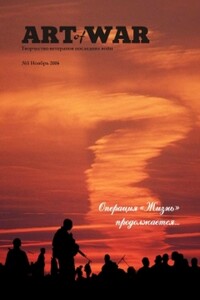Выживший. Чистилище | страница 24
— Я вас понимаю, — предвосхищая аргументы собеседника, сказал я. — И не собираюсь вас переубеждать. Просто когда вам зачитают приговор — вспомните наш разговор.
Между тем Костыль сотоварищи затеяли чифирь. Делали они его оригинально. Приоткрыли окошко, под которым на полу развели самый настоящий костерок из тряпок и газет, пристроили на него кружку с водой, и когда вода закипела — бросили в нее несколько щепоток черного листового чая, хранившегося в плотной бумаге. После закипания сняли с огня, накрыли сверху донышком другой кружки. Сняли ее через 15 минут, и по «хате» поплыл характерный запах.
Уголовники пили напиток по очереди, заодно пуская по кругу самокрутку, видно, для усиления воздействия. Курить я пробовал еще до армии, не понравилось, так и не научился. А вот крепкий чай уважал, научился пить его в Чечне, и предложи мне Костыль сейчас хлебнуть чифиря — может быть, и не отказался бы.
— На прогулку! По двадцать человек.
Дверь со скрипом отворилась, и первая группа во главе с Костылем и его подельниками отправилась дышать свежим воздухом. Я от прогулки отказался, и мои новые знакомые ушли гулять без меня. Еще одним, кто не пошел на прогулку, был летчик Ян Рутковский, вернувшийся весной из Испании. Он лежал по соседству, у него после избиения на допросе с неделю назад отказали ноги, вернее, он передвигался, но маленькими шажками, как я недавно до параши. И тоже все началось с отбитых почек. Как бы и самому преждевременно не стать инвалидом. А в медсанчасть его почему-то не переводят. У-у, звери!
Глядя на этого молодого, здорового парня, я его искренне жалел. Вся-то вина летчика была в том, что, вернувшись из испанской «командировки», он раскритиковал конструкцию наших истребителей. Вот буяна и упекли сюда, и дальнейшая его судьба не выглядела особенно веселой. Если в СИЗО не загнется — скорее всего, загнется в лагере. А то и расстреляют за антисоветскую агитацию, которую ему инкриминируют, где-нибудь в подвальном коридоре.
Делать было нечего, время спрессовалось в одну растянутую, как кисель, субстанцию. По праву больного меня никто из сокамерников не тревожил, и я мог хотя бы насладиться лежанием на жестком матрасе, разглядывая нацарапанные на стенах надписи. Тут, судя по всему, не красили стены с дореволюционных времен. Глаза — один из которых был прилично затекшим — натыкались на даты, самая старая из которых относилась к 1897 году. «Гога из Тифлиса — 1897», а чуть ниже те же цифры и надпись, сделанная грузинской вязью. Нацарапать что ли ради смеха — «Здесь был Ефим Сорокин, родившийся в 1980-м году, в год проведения московской Олимпиады»… То-то сидельцы затылки будут чесать.