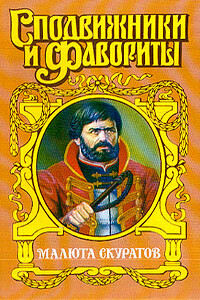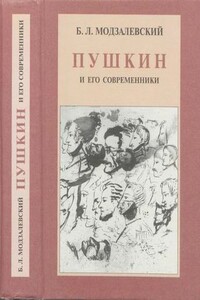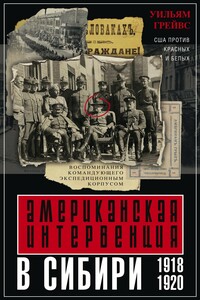Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга | страница 47
Но писатель — это не только язык, писатель — это еще и почва и судьба. В каком-то смысле слова Эренбург — почвенник, что блистательно доказал романом «День второй», военной публицистикой, «Молитвой о России» и стихотворными циклами периода борьбы с фашистской Германией, а также составлением «Черной книги». Собирание материала для нее и редактура превратили Эренбурга в подлинного автора народной эпопеи горя и страданий.
В один из самых критических моментов жизни — в письме к Сталину с просьбой отпустить его за границу — Замятин упоминает об Эренбурге, считая выраженную мысль опорной: «Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки: почему же то, что разрешено Эренбургу, не может быть разрешено и мне?»
Действительно: почему? И впервые Сталин соглашается в ответ на письменное обращение разрешить писателю выезд из страны. Михаил Булгаков в ответ на подобную просьбу получил отказ. Отчего Евгению Замятину позволили, а Михаилу Булгакову — нет? Тайна, которую унес с собой вождь.
Евгений Замятин жил за границей замкнуто, надеялся возвратиться в Россию, не знался с эмигрантскими и антисоветскими кругами и, очевидно, тяготился существованием добровольного изгнанника. Посох Агасфера ему тоже оказался в тягость. Но Сталин проявил широту, продемонстрировал, что способен поступать вопреки большевистским стандартам, и это не могло не подействовать на Эренбурга. Замятин — крупная величина в литературе, мастер русской прозы, и его личная судьба как бы служила положительным примером, но одновременно и вводила в заблуждение европейские культурные круги. В статье сотрудника радиостанции «Свобода» Бориса Парамонова под одиозным и неприличным названием «Портрет еврея: Эренбург», напечатанной в начале 90-х годов ленинградской «Звездой», которую привлек неявный антисемитский душок, есть зловещее примечание: «…не нужно преувеличивать независимость парижской жизни Эренбурга от советской метрополии. Чрезвычайно интересную подробность мы находим в письме Замятина к Сталину, где он просит отпустить его за границу на тех же условиях, что и Эренбурга. Можно только догадываться, что за этим стояло».
Ну, во-первых, об условиях пишет сам Замятин — Борис Парамонов не очень внимательно прочитал письмо или намеренно утаил от читателя вторую часть фразы. Во-вторых, в отношении Эренбурга Борис Парамонов бросает недвусмысленный намек на некие скрытые связи русского парижанина с Лубянкой, потому что только оттуда могли повлиять на жизненные обстоятельства Эренбурга. Никто, кроме Лубянки, не мог оказать подобного воздействия. Если бы Кремль приказал, это было бы осуществлено через агентурную сеть, что не может вызвать ни возражений, ни сомнений. С Эренбургом Борис Парамонов обращается кое-как, и это понятно: ведь речь идет о еврее, которого не все и не всегда жалуют на Западе. Замятин — другое дело. С Евгением Ивановичем нельзя так поступать, как с Эренбургом, по многим причинам. Но что же Борис Парамонов хочет сказать в таком случае о Замятине? На что он намекает? Какие условия в письме к Сталину, кроме тех, о которых ясно написал Замятин, имеются в виду? Замятин выразился конкретно: почему то, что разрешено другому, не позволить и ему?