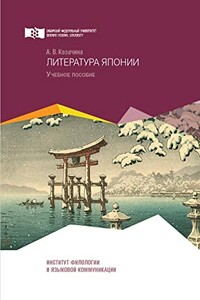Достоевский и его парадоксы | страница 87
В России такое действие оказалось сопряжено с бесчеловечными жестокостями, превосходящими жестокости правления Петра Великого, и вот, теперь приходило время духовной, а не политической реакции, и кожиновский круг был своеобразным, может быть, наиболее характерным ее инкубатором.
Конечно тут подходили «Записки из подполья»! Какое в этом смысле может быть сравнение между «Записками» и теми же «Бесами», которых расхожее мнение возгласило пророческим произведением? «Бесы» – это чисто литературное произведение, его легче читать, но в «Бесах» есть только один персонаж, который становится в уровень с «Записками» – Шигалев. Верховенский, по словам самого Достоевского, комичен, и потому он не более, как пародия, а Ставрогин, который психически нездоров и интересы которого в романе вращаются только вокруг женщин, это чистый романтический герой, близнец героев Гофмана или Новалиса. Между тем «Записки из подполья» это единственное произведение Достоевского, в котором рассуждение о рационализме и иррационализме проходит действительно на субстанциальном уровне и в котором рациональное волевое усилие, направленное на устройство справедливого общества, в результате создает механический муравейник, и ему отказывается в способности выразить экзистенциальное человеческое «я – есть!». В «Записках» рациональному волевому усилию противопоставляется бессмысленное своеволие как индивидуальный акт воли иррациональной, которое единственно, согласно Достоевскому, есть проявление «я – есть!» человека. С сознательным волевым усилием в «Записках» в конечном счете ассоциируется антигуманность, гуманность же выражает себя через анархическое и разрушительное «раззудись плечо, размахнись рука». Такова в «Записках из подполья» трактовка воли и разума.
Однажды Вадим указал мне на одно место во второй части «Записок». Это было место столкновения героя с офицером в биллиардной:
Я испугался не десяти вершков росту и не того, что меня больно прибьют и в окно спустят; физической храбрости, право, хватило бы; но нравственной храбрости недостало. Я испугался того, что меня все присутствующие, начиная от нахала маркера до последнего протухлого и угреватого чиновничишки, тут же увивающегося, с воротником из сала, – не поймут и осмеют, когда я буду протестовать и заговорю с ними языком литературным. Потому что о пункте чести, то есть не о чести, а о пункте чести (point d’hononeur), у нас до сих пор иначе ведь и разговаривать нельзя, как языком литературным. На обыкновенном языке о “пункте чести” не упоминается. Я вполне был уверен (чутье-то действительности, несмотря на весь романтизм!), что они просто лопнут со смеха…