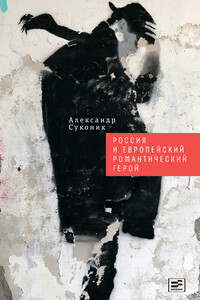Достоевский и его парадоксы | страница 86
Разумеется, будет ошибкой посчитать эту неприязнь к рационализму за антиинтеллектуализм: тут имел место чисто интеллектуальный, а не спонтанный подход. Куда скорей круг тех же Аксенова-Гладилина был не шибко интеллектуальным и тем более не шибко культурным, никак не литературоведческий кожиновский. Я помню, как Кожинов издевался над невежеством Аксенова и в подтверждение уверял всех, что тот, услышав в ЦДЛ от кого-то пушкинское «пора, мой друг, пора», воскликнул: какие прекрасные слова! какое название для повести! Кожинов, как и положено по темпераменту идеологу, часто преувеличивал и передергивал, но правда в его словах была: как-то получилось так, что в основном тех, кто наметился в шестидесятые в либералы, никак нельзя обвинить в их упоре на культуру и историю культуры России, но те, кто склонился к консерватизму, пришли к нему через чтение идеалистической русской мысли и, как следствие, через ревизию советской культурологической модели прошлого. Аксенова и Гладилина вряд ли заботила ревизия культурологических идей, эти молодые люди самораскрывались через здоровую интуицию невежд, чувствующих свое время и спонтанно прикидывающих своих героев на американскую литературу двадцатого века. Наш же круг совсем не спонтанно был погружен в русских классиков девятнадцатого века – а уж что касается Достоевского, кто же, как не Достоевский находился тут во главе угла? Чей же культ царил среди нас, если не культ Достоевского?
Впрочем, следует сказать, что нелюбовь к рационализму не была привилегией какой-нибудь одной группы – она, так сказать, вообще витала в воздухе. Например, выходил очередной академический том мировой литературы, посвященный литературе Франции, и в центре внимания оказывался не Вольтер, который теперь никого не интересовал, но знаменитое пророчество Казота, о котором никто раньше понятия не имел и которое составители не даром же вдруг включали в сборник (какая же «литература» было это пророчество?). Это был момент, когда подходил к концу грандиозный рационалистический эксперимент построения нового общества в России, и после такого эксперимента не могла не наступить реакция – я употребляю слово «реакция» в его изначальном смысле, потому что у нас привыкли называть консервативным, реакционным, еще каким поздний советский режим, что по сути неверно. Как бы ни держался за свой статус кво советский режим, он все равно был продолжением не реакции, но акции, предпринятой пятьдесят-шестьдесят лет назад, той самой акции, прямого волевого действия человеческого рацио, которому нет места в поэтике Достоевского, но которое лежит в основе развития европейской цивилизации.