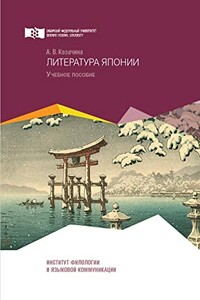Достоевский и его парадоксы | страница 88
Восторгаясь, Вадим разъяснял мне: – На обыкновенном языке о «пункте чести» не упоминается – у нас, понимаешь? Понимаешь, как замечательно сказано!
Что-то во мне противилось разделить восторг Вадима. Во-первых, я подозревал (не без основания), что Вадим тут имеет в виду личное: он был трус, то есть осторожный в общественной жизни человек, и призывал найти оправдание своей гражданской трусости у Достоевского. Во-вторых, тут опять было такого рода воспевание низа, которое было как-то уж слишком безыдейно. Но такова была трактовка Кожиновым «Записок из подполья», этой бесконечно сложной, противоречивой, многослойной вещи, по сравнению с которой остальные произведения Достоевского кажутся двухмерными. Разумеется, он брал только одну сторону произведения, да и то на свой манер, но – теперь я признаю это – манер этот не был ни сентиметален, ни пустословен. Это был манер оправдать в человеке все, абсолютно все, что в нем неприятного и неприглядного, как бы ни были расхлябаны его поступки с точки зрения «высоких» моральных и этических христианских (не забудем это слово) ценностей. Такова была, согласно Вадиму, высочайшая гуманность Достоевского на русский всепрощающий манер, бросающий вызов всем законностям, включая законности моральные. Такова была русская, пренебрегающая общественными законами гуманность, которая ясно указывала на полную свою инаковость по сравнению с законными гуманностями Запада.
Но тут, конечно, не было романтического порыва в идеализм, над которым подпольный человек хоть и издевается, но который неотделим от его натуры, и в этом состояла позиция Вадима: он брал от Достоевского только ту его сторону, которая состоит в издевательском признании стороны российской жизни, для которой все эти европейские твердые правила «пункта чести» только пустопорожние слова. Такова была ревизия Кожиновым Достоевского – и я, сегодняшний, умудренный долгой жизнью, признавая ее однобокость, признаю ее, увы, реалистичность.
Продолжая об иррациональности низа. В нашем кругу царило особенное настроение. Например, в одном из наших гуляний, которые состояли из завихренных переездов из квартиры в квартиру, чтения стихов и питья, кто-то обнаруживал, что у него из кармана пальто пропали деньги. Начинались полупьяные негодующие восклицания, кто-то был уже готов к обыску, кто-то был готов к драке, но тут Битов, вяло махнув рукой, произносил: а-а, украсть всякий может – и внезапно наступала пауза, затем всё взрывалось смехом, и все начинали говорить Битову, как они его любят. Замечание Битова внезапно сводило все на иной уровень реальности – именно