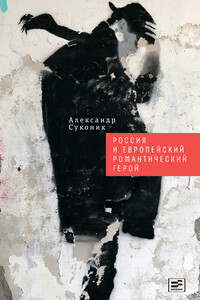Достоевский и его парадоксы | страница 85
Я кое-что могу рассказать о наших мутантских трактовках повести Достоевского. В шестидесятые годы я принадлежал к кругу людей, среди которых, условно говоря, идейно главенствовал В. Кожинов. В чем заключалась общность этого круга? Какое тут подобрать определение? Среди нас были люди очень разных уровней культурного развития, такие поэты, скажем, как Передреев или Алешковский, которых трудно было бы упрекнуть, что они станут наслаждаться чтением Бердяева или Булгакова, или такие провинциальные невежды вроде меня – но были и куда более культурно продвинутые люди вроде писателя Битова или культуртрегера Гачева. Можно сказать, что все мы были в разной степени антисоветчики, но антисоветчиками в этом смысле уже были большинство московских интеллигентов, по крайней мере те, кто был поумней или потоньше, так что это определение не слишком подходит (тем более что Вадим Кожинов очень скоро изменился и стал из националистического принципа поддерживать государственный статус кво). Разумеется, сегодня круг Кожинова привычно называть почвенническим, консервативным, националистическим и прочими подобными словами, но это тоже все слова-нашлепки, политические слова, которыми на самом деле описывать или понимать людей изнутри невозможно – тут я чувствую, что говорю прямо то, что сказал бы Вадим (потому что он подобные вещи говорил часто). Вспомнив это, я вспоминаю также, что наш круг можно было бы назвать принципиально аполитическим: наш антисоветизм был насмешлив, косвенен и сугубо эстетичен, вовсе не прямолинеен, как диссидентский, – презрение к политике и к диссидентам еще больше объединяло нас, чем презрение с тупости власти, хотя я спрошу тут же: как можно быть националистом и презирать политику? В конечном счете Вадим и ударился в политику, хотя это было уже гораздо позже… Своими вопросами я только подчеркиваю неточность определений, всяких определений, которыми мы так часто пытаемся определить тайну симпатий и антипатий, объединяющих людей. Но как тогда обойтись без определений – не означает ли это попытку вообще обойтись без слов? И опять я слышу, как Вадим одобряет то, что я говорю, потому что он постоянно настаивал, что мы близки, потому что любим друг друга, а не по каким-то рациональным причинам. Действительно, что может быть еще так противоположно, как рационализм и любовь? Тем более, когда слово любовь произносится по-русски? Разумеется: если нас объединяла любовь, то это была русская любовь, некое чувство, которое на европейских языках определяют какими-то более прохладными и осторожными словами… и опять я захожу в словесный тупик. Я, вероятно, слишком долго живу на Западе, а кроме того усох от возраста, поэтому эта самая любовь по-русски, то есть смысл, который у нас вкладывают в это слово направо и налево, в особенности после нескольких пропущенных рюмок, мне больше не нравится, тут мне подозревается что-то расхлябанное и безответственное… Кроме того, я мог бы рассказать, как некоторые из нас вовсе не так уж «любили» друг друга. И в то же самое время нас действительно объединяло нечто весьма существенное. И опять я пытаюсь нащупать определение этой существенности, и нахожу только одно слово, которое немедленно ассоциируется с «Записками»: