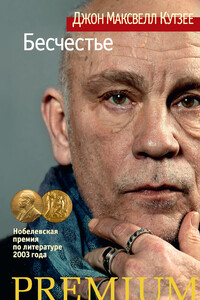Лабиринты | страница 61
∙ 10>23. Так, благодаря наскальным письменам, мы заново открыли константу Лошмидта. В качестве второго «я», соответственно, выступает Глухонемой. Однако, по мнению таких ученых, как Кнюрбель, Хопплер и Артур Полл, Глухонемой идентичен Ионатану, который также что-то вырезал на скале. Удивительно, что Ионатан, после первого упоминания о нем, больше не появляется. Нора рассказывает «полковнику», что Эдингер и Глухонемой реконструировали математику, физику и астрономию. «Полковника» занимает исключительно вопрос о враге, в то же время некоторая часть надписи представляет собой своего рода трактат о судьбах человечества, причем этот вопрос увязывается с жизнью и смертью «солнц» – по мнению исследователей, «полковник» решительно не мог написать что-то подобное. Целый ряд ученых, а именно Бабах, де ла Пудр, Тайльхард фон Цель, указывают на отсутствие в архиве Администрации каких-либо упоминаний об Эдингере, и таким образом, считают они, содержание надписей – плод воображения «полковника», фантазия, которой он предавался, оказавшись в безнадежном положении, он придумал себе второе «я»: одному своему «я» он предоставил действовать, а другому – мыслить. В заключение приходится констатировать, что мы не имеем никаких конкретных сведений о преставившейся Европе. У нас осталась лишь ее музыка. Музыка и была великим достижением этой части света. Поныне не забыта и мелодия «Швейцарского псалма». Однако заявление некоего радиолюбителя, что, дескать, недавно он слушал сей гимн, поймав его на коротких волнах, не заслуживает доверия: этот радиолюбитель еще и большой любитель выпивки.]
12 октября 1975 года меня положили в бернскую больницу – возобновились боли, которые я слишком хорошо знал, впервые испытав их семью годами ранее. Привезла меня в Берн жена. Она ничего не сказала, когда меня направили в ту самую палату, где умерла ее мать. Не желая расстраивать жену, я сделал вид, что ничего не заметил, хотя отлично знал, что жена это знает. Вдруг прибежала медсестра и спросила, не хочу ли я перейти в другую палату, но я сказал, меня и эта устраивает. Сделали кардиограмму – ничего хорошего, но и ничего плохого она не показала. Врач – со своей обычной невозмутимостью – сказал, что лежать придется две недели, это, дескать, в любом случае будет мне только полезно. Книги я захватил с собой, фломастеры и бумагу для рисования тоже. Наверное, когда жена уезжала в Невшатель, на душе у нее было спокойнее, чем когда она привезла меня в больницу. Оставшись один, я засомневался: может, стоило все-таки перейти в другую палату? В первый же вечер я взялся за рисунок. Атлант, несущий на плечах мироздание. Поначалу я все прикидывал, как бы мне изобразить «мироздание», да и возможно ли это вообще при нашем современном уровне знаний? Как-то раз я уже нарисовал Атланта, но скорей традиционного – великана, уронившего гигантские звезды и планеты. Теперь же мои Атланты кряхтели под тяжестью земного шара, и я их разорвал, недовольный. Но наконец, и то через неделю, один из рисунков показался мне мало-мальски сносным: Атлант с мучительным трудом куда-то ползет, буквально придавленный мирозданием, которое словно затягивает в водоворот черная дыра. Я рисовал с ожесточенным упрямством, сна ни в одном глазу, затерявшийся в безвременье больничной ночи, которой предшествовали такие же безвременные ночи, и ощущал все большую ясность и бодрость, несмотря на две таблетки рогипнола (по два миллиграмма) и таблетку валиума-10, и я понял, что своим рисованием я пытаюсь преодолеть болезнь. Продолжая рисовать, я размышлял: может быть, Атлант несет на своих плечах мироздание не только потому, что он вообразил, будто это его долг; может быть, проклятие богов, обрекших его нести на плечах мироздание, было его собственным тайным желанием – нести на своих плечах мироздание; может быть, и я вообразил, что должен лежать тут на больничной койке, потому что втайне я хотел быть больным. Той же ночью я позвонил врачу, позвонил жене и сказал, что возвращаюсь домой. Назавтра я был дома.