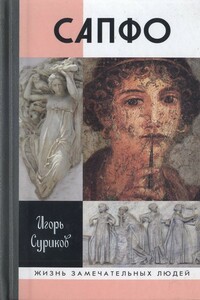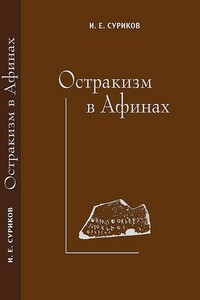Аристократия и демос: политическая элита архаических и классических Афин | страница 63
Это десятилетие Писистрат провел в активных действиях. Мы встречаем его то неподалеку от Аттики, в городе Эретрия на Эвбее, то на северном побережье Эгейского моря, где он собственными силами (видимо, с ним ушло в изгнание определенное число сторонников) осуществлял колонизационные акции, осваивая территории, богатые месторождениями серебра. И действительно, если опальный тиран желал реванша, больше всего ему были теперь необходимы материальные средства, чтобы навербовать контингент воинов-наемников. И еще он, конечно, нуждался в верных друзьях. Таковые у него тоже нашлись – очевидно, в силу межполисной аристократической солидарности. Когда на одиннадцатый год изгнания тиран ощутил, что он в силах вновь попытаться достигнуть успеха и начал из Эретрии готовить вторжение на территорию Аттики, в его распоряжении были немалые силы: среди тех, кто взялся поддержать его притязания на власть, мы обнаруживаем и фиванцев, и эретрийцев, и аргивян, и – специально оговаривают источники – наксосского аристократа Лигдамида.
Этот пестрый, «интернациональный» отряд, состоявший частью из наемников, частью из добровольцев, в 546 г. до н. э. высадился в районе Марафона. Выступившее ему навстречу из Афин полисное ополчение было разбито в сражении. Так Писистрат в третий раз, и теперь уже окончательно, овладел властью в афинском полисе.
Можно с уверенностью утверждать, что афинская аристократия на этот раз пострадала сильнее, чем при первом и втором приходах Писистрата к власти. Так, пришлось уйти в изгнание Алкмеонидам во главе с Мегаклом, а ведь именно этот род до сих пор был главным препятствием для упрочения тирании. Впрочем, то был сознательный выбор Алкмеонидов. Похоже, что Писистрат никого насильно из полиса не изгонял, но многие представители знати, тяготясь режимом единоличной власти, сами покидали Афины и Аттику. Именно это говорит Геродот (История. VI. 35), в частности, о тогдашнем лидере рода Филаидов – Мильтиаде, сыне Кипсела. Его решение отправиться на Херсонес Фракийский было вполне добровольным. Скорее всего, то же следует сказать и о единоутробном брате Мильтиада – Кимоне, сыне Стесагора (будущем трехкратном олимпийском победителе), который при тирании тоже оказался в изгнании (Геродот, История. VI. 103). Как бы то ни было, полоса вооруженных смут в полисе была надолго пресечена.
Отзывы античной традиции о тирании Писистрата могут показаться парадоксальными и даже удивительными, если учесть, что в целом полисная идеология классической эпохи тиранов отнюдь не жаловала. Перед нами – серия панегириков, рисующих образ «идеального правителя». И характерно, что исходят они отнюдь не от апологетов тирании (ни Геродот, ни Аристотель таковыми не являлись). Насколько можно судить, перед нами – отражение в высшей степени благоприятной для Писистрата народной, фольклорной традиции, в которой на конкретное историческое лицо оказался наложен архетип «доброго царя», защищающего простых людей от произвола знати.