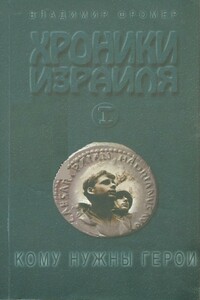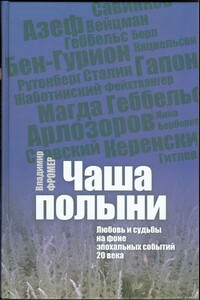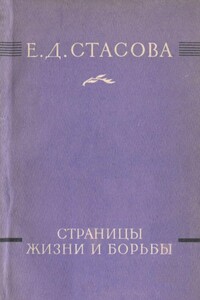Хроники Израиля: Кому нужны герои. Книга вторая | страница 2
— Что с тобой? — спросил кто-то. — Ты видел призрак?
— Нет, — ответил Тальмон. — Я только что убил Робеспьера…»
Лекции Тальмона посещали студенты всех факультетов. Самая просторная аудитория не могла вместить такого наплыва. Шел 1967 год. Я, репатриант прибывший через Польшу, старался не пропустить ни одной лекции. Скудного моего иврита с трудом хватало на то, чтобы в общих чертах понять, о чем идет речь, но я все же вел конспекты, записывая ивритский текст русскими буквами. Конспекты эти хранятся у меня по сей день, но прочитать их уже невозможно.
И не дай Бог какому-нибудь студенту, вышедшему из-под влияния магических чар, нарушить благоговейную тишину в аудитории. Смутьян немедленно изгонялся. Однажды один из таких подвергнутых остракизму студентов позвонил вечером Тальмону домой и спросил, чем кончилась история с Дантоном.
— А вот этого, мой друг, вы не узнаете никогда, — любезно ответил профессор.
Когда я пришел к Тальмону со своими проблемами, он терпеливо выслушал меня и охотно согласился принять устный экзамен. Я, разумеется, волновался, а он, чувствуя это, спрашивал осторожно, словно поддерживал под локоть переходящего дорогу слепого. Когда же я стал демонстрировать знание дат, он сказал:
— Знаете, что нужно для того, чтобы стать хорошим историком? Забыть все даты.
Историком я так и не стал. Потому, наверно, что даты помню до сих пор.
Летом 1973 года Тальмон прочитал в мемориальном институте «Яд ва-Шем» лекцию, посвященную Катастрофе европейского еврейства. И доказал, что геноцид еврейского народа, осуществлявшийся Германией в невиданных прежде масштабах, имел иногда глубоко скрытые, иногда легко различимые корни в европейской культуре. Беспощадный анализ Тальмона заканчивался вопросами, на которые до сих пор нет ответов:
«Умерли ли миллионы евреев мученической смертью во имя прославления Господа?
Большая их часть погибла, не имея никакого понятия об этом.
Значит ли это, что они умерли напрасно, став бессмысленными жертвами человеческого скотства, проявляющегося на протяжении всей истории?
Была ли Катастрофа ничем иным, как следствием деградации человечества, которая может вызывать лишь притупленную боль и бесконечную скорбь?
Или, может быть, за непредставимым унижением Катастрофы есть какое-то страшное величие и великолепие?
Я имею в виду не только героизм и стойкость борцов Варшавского гетто и еврейских партизан.
Я имею в виду, что в более глубокой перспективе Катастрофа является следствием столкновения в гигантских масштабах полярных ценностей: нравственности и языческих культов, святости жизни и апофеоза войны, всеобщего равенства и превосходства немногих избранных, поисков истины и жизнестойкой инстинктивности, тяги к справедливости и восхваления инстинктивных импульсов, предвидения истинного общества равных и перспективы общества господ, правящих рабами.