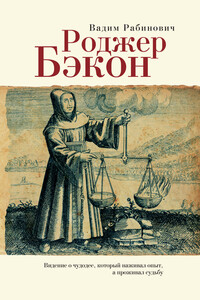«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 69
Неслучайно, даже автор очень популярной в России с конца 70-х годов XVIII века кулинарной книги, со свойственной эпохе обстоятельностью названной «Словарь поваренный, приспешничий, кондиторский и дистиллаторский, содержащий по азбучному порядку подробное и верное наставление к приготовлению всякого рода кушанья из французской, немецкой, голландской и английской поварни…»[190], писатель, переводчик, а также драматург В. А. Левшин предпочитал не вводить собственные кулинарные интересы в свои литературные произведения. В его появившейся в 1794 году (то есть почти одновременно с выходом «Словаря…») пьесе «Свадьба Волдырева», открывшей вместе с более ранней, 1788 года, анонимного авторства «Свадьбой Промоталова» долгий ряд «свадеб» русской драматургии, образы застолья и упоминания о еде как таковой отсутствуют.
Принято считать, что первым ввел «кулинарный антураж» в русскую словесность XVIII века Д. И. Фонвизин, тонкий ценитель кухни, как явствует из его путевых заметок и дневников, а также слывший, по воспоминаниям современников, «совершенным гурмэ» И. А. Крылов, который в буквальном смысле вывел пирог на сцену, т. е. сделал его смысловым центром одноименной комедии. Но это была бытовая комедия – жанр, по-прежнему воспринимавшийся литературным сознанием эпохи как популярный и продуктивный, но все же «низкий».
«Высокой» поэзии конца XVIII века – начала XIX века гастрономические образы и темы были чужды, по крайней мере до тех пор, пока Пушкин не легализовал их в статусе «поэтических предметов»[191], однако и он будет полуиронизировать-полуоправдываться в «Евгении Онегине» из-за того, что слишком часто говорит «о разных кушаньях и пробках». В 1837 году выходит первая и единственная в истории русской литературы гастрономическая поэма «Обед» В. С. Филимонова (1787–1858)