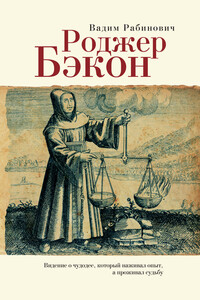«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 68
Следует отметить, что в миниатюрах синодиков, как и в текстах синодичных предисловий, осуждаются не пиры сами по себе (то есть вина, яства и развлечения), а греховные причины и поводы их организации[186]. А в тихой дружеской и семейной беседе за скромно накрытым столом или печальной поминальной трапезе нет ничего предосудительного.
Рис. 6. Пир благочестивых и нечестивых. Лубок XVIII в.
Присутствующие в синодиках представления о пиршествах с противоположной семантикой сошлись в известном русском лубке XVIII века «Трапеза благочестивых и нечестивых», широко расходившемся во множестве оттисков нескольких редакций в течение двух столетий. В верхней части картинки несколько мужчин разного возраста, сидя за столом, преломляют хлеб и макают его в соль, ведут благочестивые разговоры. Их покой охраняет и осеняет крестом ангел. Эта сцена вызывает ассоциации с совместными трапезами Апостолов, известными по евангельским и апокрифическим преданиям. А в нижней части лубка кипит шумный бражный пир. У левого края стола сидят молодой мужчина и женщина, которых подталкивает в объятия друг друга хитрый и ловкий бес. Другой бес положил руки на плечи двух взрослых мужчин, видимо провоцируя их на конфликт. Мелкий бесенок прыгает по столу и гадит в сосуды с пищей. Справа – два музыканта наигрывают бойкую мелодию на волынке и смычковом инструменте. Опечаленный ангел, отвернувшись, покидает это собрание грешников.
В народной художественной культуре, во многом унаследовавшей сюжеты и образы миниатюр средневековых рукописных книг, в числе которых были и синодики, «трапеза благочестивых и нечестивых» сохранит свою популярность вплоть до начала XX века, а позже продолжит свое существование в старообрядческой художественной традиции. А вместе с ней в культуру Нового времени будет транслировано и бинарное, антиномическое понимание социального смысла и роли застольного общения людей.
Светлана Панич
Образы трапезы в художественном мире Г. Р. Державина
При чтении поэзии Г. М. Державина нельзя не заметить, что его художественный мир изобилует образами трапезы.
(«Приглашение к обеду»[187])
Это тем более удивительно, что русская литература XVIII – первой трети XIX века была, если не безбытной, то определенно «безъедной». Как справедливо отмечает А. Генис, исторически «в России не было традиции “кули нарной художественной литературы”, и к гастрономической теме привыкли относиться со снисходительной иронией»