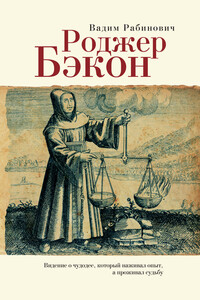«Пир – это лучший образ счастья». Образы трапезы в богословии и культуре | страница 70
Что делает Г. Р. Державин? В самом общем виде можно сказать, что он выводит «проблематику трапезы» из области бытописания и вводит ее в контекст глубочайших размышлений о смысле и цели человеческой жизни. Уже в стихотворении 1779 года «На смерть князя Мещерского» трапеза знаменует саму «жизнь жительствующую». Напряженное противопоставление «стола яств» как овеществленной полноты жизни «гробу» – столь же овеществленному небытию («Где стол был яств, там гроб стоит») создает кульминацию не только строфы, но и произведения в целом, в том числе и на формальном уровне – 44-я из 88 строк, она буквально делит текст пополам. Однако развернутые образы трапезы будут преобладать лишь у зрелого Державина – «Приглашение к обеду» было создано в 1795 году, «Похвала сельской жизни» в 1795, «Евгению. Жизнь Званская» появляется в 1807. «Застолье, – пишет С. С. Аверинцев, – один из важнейших символов, переходящих из одного стихотворения Державина в другое. Он приглашает нас на пир своей поэзии, как хлебосольный и тороватый хозяин, – и сам, как гость, с изумлением, с нерастраченным детским восторгом, ни к чему не привыкая и не остывая… благодарно смотрит на щедроты бытия»[195]. Далее мы попытаемся показать, что парой «созерцание-приглашение» определяется специфика трактовки образов трапезы в державинской поэзии.
Если обратиться непосредственно к «гастрономическому материалу», перед нами – типичный «барский» стол русского помещика-хлебосола, причем стол подчеркнуто провинциальный, особенно в сравнении с описанием столичного «пира» в «Фелице». Дистанцирование от «тесноты Петрополя», которое было заявлено, несомненно, перекликающимися последней строфой «Приглашения» («Блаженство не в лучах порфир…») и первой строфой «Жизни Званской» («Блажен, кто менее зависит от людей…») осуществляется также гастрономически. Стол провинциальный хотя бы потому, что в отличие от упомянутых в «Фелице» заморских разносолов («Там славный окорок вестфальский… Там плов и пироги дают // Шампанским вафли запиваю… и т. д.) яства, которые перечислены в обоих интересующих нас стихотворениях – это «припас домашний, свежий, здравый». Как указывает в объяснительных примечаниях к «Приглашению» биограф и комментатор Державина Я. Грот, «относительно первого стиха («Шекснинска стерлядь золотая…») заметим, что в издании 1798 года и рукописях читается “шекшинска”. На местах народ говорит Шексна или Шехна (откуда Пошехонье). Водящаяся в этой реке рыба действительно отличается желтым цветом своего мяса. Каймак – малороссийское кушанье, приготовленное из молока»