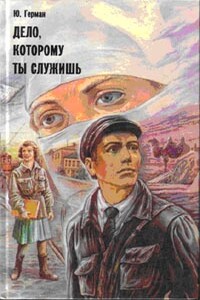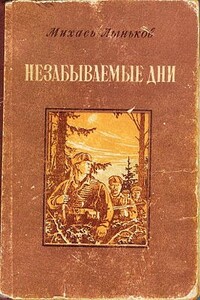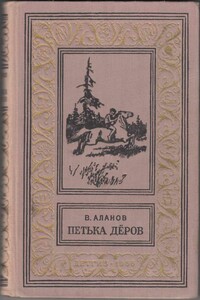Далеко на севере. Студеное море. Аттестат | страница 19
Судороги сводят его лицо.
Я хватаю шприц. Где-то на пути я встречаюсь с взглядом Анны Марковны. Я захожу к руке.
— Назад, идиотка, — хрипит Русаков, — не подходить ко мне!
Я останавливаюсь со шприцем. Я запуталась, я пропала.
— Куда же? — спрашиваю я. — Куда колоть?
— В зад!
— Но вы же одеты… брюки…
— Через штаны…
Он отставляет круглый, большой зад.
— Левее, — как сквозь туман слышу я голос Анны Марковны, — выше!
Я колю левее и выше и надавливаю поршень. Мое сердце страшно колотится. Бегут секунды. Все мы — несколько пар глаз — уставились на Русакова. Мы видим, как он дышит. Мы видим, как он ждет. Еще несколько секунд — и мы слышим голос:
— Сестра, салфетку.
Операция продолжается. Я смотрю на Русакова и ничего не могу понять: он, толстый и пожилой человек, некрасивый, с носом картофелиной и рачьими глазами, сейчас вдруг стал так дорог и мил мне, так неизмеримо громаден по сравнению со всеми нами, что мне кажется, будто это не он, а другой, не тот, которого я знала уже нисколько недель, а совсем, совсем иной человек.
Но это он, он. Опять он противно кряхтит, как кряхтел раньше, двадцать минут назад:
— Так-с, так-с…
Опять ругается:
— Сестра! Черт! Санитарка! Дура! Поросятина!
Я слушаю это, и чувство моей преданности к нему все растет, мне хочется, чтобы он меня выругал, если это доставляет ему хоть каплю удовольствия. Операция закончена.
Рудаков выходит из операционной и ложится на камни. В халате, с короткими ногами, усатый и краснолицый, ой теперь напоминает мне толстого и плутоватого кота из какой-то позабытой детской сказки. Особенно, когда храпит:
— Куррр-муррр, куррр-мурр.
Кот, нарядившийся в белый халат для каких-то своих проделок.
Я опять считаю раненых и не верю своим глазам.
— Было четверо, оперирован один, осталось двадцать восемь.
Как же это так? Я снова считаю. Этого просто не может быть.
Я бужу Русакова. Он встает мгновенно и мягко, и мне кажется, что он еще должен потянуться, как кот, но он почему-то не потягивается.
— Двадцать восемь, — говорю я, — еще двадцать восемь.
— Двадцать восемь, — покорно повторяет Русаков.
Ему приносят кружку чаю, он медленно пьет и спускается в операционную. На столе уже новый раненый. Потом еще и еще.
— Сестра, кетгут, — слышу я как сквозь сон, — какого черта, идиотские свиньи…
Собственно, он ругает не нас. Он просто бормочет, это почти как бред.
А ночью я опять докладываю:
— Двадцать один.
Мама Флеровская становится на место Русакова. Он спит, сидя в сенях землянки, и курлычет: