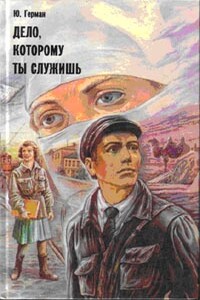Далеко на севере. Студеное море. Аттестат | страница 18
— Да, — быстро говорит Русаков, — да, да, да…
Вытирает губы ладонью и идет мыть руки к умывальнику. Моясь, он поет:
Голос у него хрипловатый, глаза закрываются г сами собой.
Маму Флеровскую вызвали. Теперь Русаков будет оперировать почти один. «Белой акации…» — напевает он, подходя к столу. Потом спрашивает:
— Фамилия?
— Капитан Храмцов, — следует ответ. — Игорь Николаевич.
— Артиллерист?
— Пехотинец.
Это тот самый капитан, который просил у меня морфию или пантопону.
— Так-с, — тянет Русаков, — так-с, молодой человек, так-с…
Я стою на своем месте возле стола. Я вижу, как дрожит кожа на груди раненого, я вижу, как струится пот по его лицу. Он лежит, голый, ширококостный, и все его большое тело покрыто большими и маленькими ранами. На нем почти нет живого места, только лицо и голова не ранены.
— Так-с, капитан Храмцов. — тянет Русаков, — так-с… А вот знал я одного… прозектора… тоже Храмцов… Это не родственник ваш?
Анна Марковна дает маску. Храмцов дышит и ругается. Тяжелая, злобная ругань вылетает из его горла. Он ругается, борясь с наркозом, и Русаков не без удовольствия бормочет:
— Боевой капитан…
Начинается операция.
Моя ладонь вся мокрая от пота. Этот капитан весь взмок, пока его готовили к операции. Я все время гладила его по широкому лбу. Я не знала раньше, что люди могут так потеть от боли.
— Так-с, — кряхтит Русаков под своей повязкой, — вот мы сейчас таким путем…
Его могучие руки с осторожной и умной силой работают где-то в брюшной полости. Его зоркие, немного рачьи глаза в кровавых прожилках смотрят туда, где работают пальцы. Глубокое молчание, почти ничем не прерываемое, царит в нашей операционной. И вдруг я вижу, как большое усатое лицо Русакова внезапно искажается, дикая гримаса пробегает возле глаз, выражение смертельного страдания сменяет нелепую гримасу, и все, что не закрыто шапочкой и повязкой, бледнеет в одно мгновение.
— Морфий! — слышу я хриплый голос.
Кому морфий? Что случилось?
Никто ничего не понимает. Со звоном падает и разбивается какая-то склянка.
— Морфий, — опять хрипит Русаков.
И тут я догадываюсь. Я вспоминаю то, что я слышала о странной болезни хирурга. Я понимаю — с ним припадок. Я понимаю — его руки в брюшной полости, на нем стерильный халат, он весь стерилен, к нему нельзя притронуться. И бросить операцию он не может.
— Морфий, морфий, морфий, — хрипит Русаков, и его рачьи глаза почти лезут из орбит, — морфий, дуры, скорее!