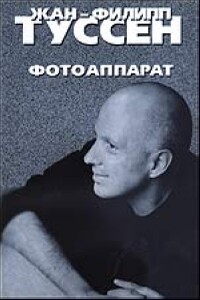Черновик | страница 30
В этой должности он проработал до самого выхода на пенсию, когда ему было уже за семьдесят. Если ему говорили, что он мог бы добиться в жизни большего, он всегда отвечал, что работал честно, литературщиной не занимался и «Толстым себя не возомнял».
Через много лет после смерти деда, уже работая над диссертацией, Сергей нашел подшивку областной газеты послевоенных лет и прочитал все гордеевские очерки.
Это и в самом деле были странные очерки, совершенно не похожие на те, что много лет заполняли страницы советских газет, особенно партийной печати. Собственно о трудовых подвигах своих героев дед упоминал, как правило, вскользь, в самом конце, и не мучил читателя цифрами трудовых рекордов: всеми этими повышенными надоями, сверхплановой выплавкой чугуна и стали и бесконечным количеством «центнеров с гектара» (Сергей, как и большинство читателей из числа не занятых непосредственно сельским хозяйством, никогда не понимал, сколько центнеров с этого самого гектара – хорошо, а сколько – плохо).
Дед писал о другом. К примеру, его очерк о крестьянке, награжденной за рекордные надои, начинался с описания ее избы. Объем очерка не позволял Павлу Егоровичу подробно описать дом Анны Григорьевны, но те несколько деталей, которые выхватил его взгляд, давали понять, в какой чистоте и опрятности и в то же время в какой бедности живет его героиня. Всей обстановки – выскобленный стол, да лавка, да выбеленная печь с лежанкой, и главное богатство – иконка с теплящейся перед ней лампадой. «Мамина», – пояснила Анна Григорьевна и нехотя принялась рассказывать про свою жизнь. Мама ее померла от тифа еще в Гражданскую, отец сгинул на той же войне. Ни как погиб, ни где похоронен, Аня так никогда и не узнала. Осталась она сиротой, но так была хороша, что заглядывались на нее парни из крепких крестьянских семей, а пуще всех пришлась она по нраву Егору Михееву, парню видному и работящему. Хоть и говорил ему отец, мол, нечего сироту в дом приводить, настоял Егор на своем. Сыграли свадьбу, дом поставили, хозяйством обзавелись, скотиной. Родила Анна своему Егорушке одного за другим двух мальчишек. А тут стали колхозы создавать. Не сразу, но решился Михеев стать колхозником, отвел свою скотину на общий двор и работать стал так, что все завидовали его удали. Но вдруг начал попивать. Автор очерка никак не связывал эти запои с приходом Егора в колхоз, но Сергею почему-то казалось, что связь здесь очевидна. Бывало, так Егор запьет, что и руку поднимет на жену, а то и на детей. Былая красота Анны Григорьевны померкла, да уж не до себя ей было, главное – мальчишек своих на ноги поставить. И поставила. Оба вышли здоровые, толковые, работящие. А тут война. Сначала Егора призвали, а потом и сыновей. А после войны остались у Анны Григорьевны от всей семьи только три похоронки. Последняя – на младшего, из Восточной Пруссии. «А я и не знала, что какая-то Пруссия есть», – горько усмехнулась хозяйка, убирая со стола остатки скромного угощения, выставленного для городского гостя. И пришлось одинокой женщине самой идти работать в колхоз. «Да и работали-то тогда одни бабы. Мужиков-то с войны вернулось – раз-два и обчелся. И те – кто без ноги, кто без руки». За работой стала забывать о своих потерях, об одиночестве. Да и какое одиночество! Коровы-то, к которым приставлена была, они ж живые, они как люди, и характер у каждой свой, и повадки. «Вот и стали они мне как родные. Хорошие они у меня, работящие. А теперь, вишь, в рекордсменки выбились. Так что орден-то надо было им давать, молоко-то, чай, ихнее, не мое», – сказала пожилая крестьянка и так задорно улыбнулась, что стало понятно: согнула ее жизнь, покалечила, а сломить не сломила.