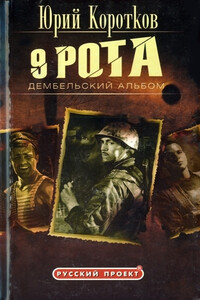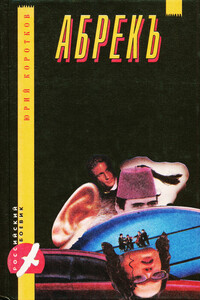Авария, дочь мента | страница 90
Под ликующие крики озерчан Петр отвернулся со скучным видом, брезгливо вытер кровь с кулака о порты и шагнул прочь.
– Петр! – укоризненно крикнул кто-то из стариков.
– Петр, руку! – возмущенно загудели парни.
Петр нехотя вернулся, подошел к Рублю и протянул руку, чтобы помочь подняться. Тот, перекатившись на бок, шарил в кармане куртки. Поднялся сам, выдувая из носу кровавые пузыри, с ненавистью глядя на Петра, и, прежде чем Бегун успел сообразить, что к чему, вскинул зажатый в кулаке баллон и брызнул Петру в лицо.
Тот отступил удивленно, затем склонился от нестерпимой боли в глазах, хотел отойти, но ноги у него заплелись, и он рухнул на траву без сознания, раскинув руки.
Заголосили бабы, мужики кинулись поднимать бесчувственного Петра.
– Убил! Убил нечистым духом! Бабку Арину кличьте!
Бегун вырвал баллон у Левы из рук.
– Не надо никого звать, – крикнул он. – Лицо водой обмойте и на ветер положите – через час отойдет! – он подхватил Рубля под руку и повел его к дому. – Ну что, победил, скотина? Все изговняешь, куда ни сунешься. Он же руку тебе хотел дать!
Тот волочил ноги, качаясь, запинаясь вслепую о корни.
– Папуасы… – бормотал он. – Я вас научу цивилизацию любить…
Ранним утром, когда Еремей собирался у крыльца на охоту, Бегун подошел к нему:
– Еремей, возьми меня с собой. Научи охоте. Стрелок из меня никакой – в армии стрелял, лет двадцать назад, да пацаном из рогатки – так хоть капканы ставить, что ли, птиц ловить…
Еремей натягивал сапоги из толстой сохатины, густо смазанные дегтем. Исподлобья, насмешливо глянул на него.
– Хватит мне бабьей работой заниматься, – настаивал Бегун. – Зима скоро – что мне зимой, кросны сновать? И нахлебником не хочу. Мне мужицкое дело надо…
С весны до поздней осени Бегун прошел весь круг полевых работ – палил прошлогоднюю стерню и взрывал пашню, сеял и полол, сенокосил и метал стога, жал серпом полегшую рожь и молотил, копал картоху и рубил капусту – вникая в каждое новое дело и ничем не брезгуя. Собирал с бабами лещину и грибы, травы, голубику и клюкву, драл бересту на рукоделие и на деготь, по колено в болотной жиже рвал рогоз – высокие стебли с толстым бархатным наконечником, которые всю жизнь считал камышом, – его мясистый полуметровый корень сушили и мололи в хлеб. Оставался еще лен – таскать, стлать, мять, трепать на волокно, но это было уже вовсе бабье искусство – как детей сиськой кормить…
Еремей тоскливо вздохнул – жалко было пропавшего дня, с таким помощником в лесу, как с ярмом на шее, – и нехотя махнул рукой. Он отдал Бегуну большую клеть, сплетенную из лозы, сам закинул на плечи крошни с провиантом, старую свою посадистую винтовку и взял рогатину – рябиновое ратовище с широким стальным пером и поперечиной. Перекрестился на храм, беззвучно проговорил губами то ли молитву, то ли охотницкий заговор и двинулся в лес. Он шагал в полную ногу, не оглядываясь, так что Бегуну приходилось поспешать, чтобы не отстать, не заблудиться. С ними шел Суслон, самая крупная из озерских лаек, сопровождавшая весной Еремея из Рысьего. Его рыжий хвост серпом и густая опушка на задних лапах наподобие галифе мелькали далеко впереди.