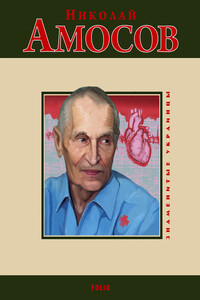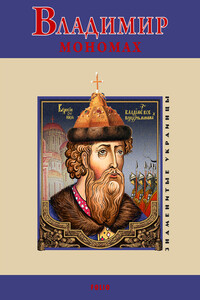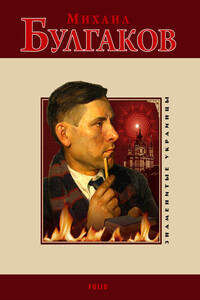Григорий Сковорода | страница 37
– Но, друг мой, – взял его под локоть генерал-губернатор, отводя немного в сторону от общества, – может быть, ты имеешь способности к другим состояниям в общежитии полезным, да привычка, мнение, предуверение…
Философ не дал договорить своему собеседнику:
– Если бы я почувствовал сегодня, – сказал он, – что могу без робости рубить турков, то с сего же дня привязал бы я гусарскую саблю и, надев кивер, пошел бы служить в войско. Труд при врожденной склонности есть удовольствие… Склонность, охота, удовольствие, природа, сила Божия, Бог есть то же… Человек есть орудие, свободно и вольно подчиняющее себя действию или любви Божией, то есть живота, или гнева Божия, то есть суда…
Сковорода еще долго говорил о «сродности», о Божьем промысле, о вездесущии Абсолютного. Трудно сказать, о чем думал тогда секунд-майор гвардии Евдоким Щербинин, но когда в 1768 году при Харьковском коллегиуме были открыты так называемые «дополнительные классы», где готовили инженеров, топографов, архитекторов, он своим личным указом назначил Сковороду на должность преподавателя катехизиса. Таким образом философ снова оказался в стенах коллегиума.
Курс, подготовленный Сковородой, назывался «Начальная дверь ко христианскому добронравию для молодого шляхетства Харьковской губернии». Он начинается знаменитой сентенцией Эпикура, к которой наш философ не раз обращался: «Благодарение блаженному Богу о том, что нужное сделал нетрудным, а трудное ненужным». «Ныне же желаешь ли быть счастливым? – спрашивает Сковорода. – Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шару земному, не броди по Иерусалимам… Золотом можешь купить деревню, вещь трудную, как обходимую. Счастие, как необходимая необходимость, туне везде и всегда даруется. Воздух и солнце всегда с тобой, везде и туне; все же то, что бежит от тебя прочь, знай, что оно чуждое, и не почитай за твое». А далее следуют десять небольших глав, в которых кратко пояснено понятие Бога, Божьего промысла, веры, надежды и любви, греха, а также представлены десять Божьих заповедей.
Впрочем, со Сковородой и на этот раз произошло то же самое, что и когда-то в Переяславле. Его трактат существенно отличался от привычных в старой украинской традиции катехизисов, в сравнении, например, с «Дидаскалией» Сильвестра Коссова, или со знаменитым катехизисом Петра Могилы «Собрание краткой науки об артикулах веры», или с греко-римским катехизисом Иннокентия Винницкого. И когда тогдашний белгородский и обоянский епископ Самуил Миславский нашел в нем «некоторые неясности для него и сомнения в речах» и спросил Сковороду, почему он не учит по-старому, тот ответил: «Дворянство различествует и одеянием от черни народной, для чего же не иметь оному и понятий различных о том, что нужно знать ему в жизни? Так ли… государя разумеет и почитает пастух и земледелец, как министр его, военачальник, градоначальник? Подобно и дворянству такие ли прилично иметь мысли о Верховном Существе, какие в монастырских уставах и школьных уроках?» Епископ, который, очевидно, хорошо знал Сковороду еще со времени своего обучения в Киево-Могилянской академии, ничего на это не ответил, но и уступать не собирался. Тем более что спор касался вопросов веры, а это была прерогатива людей духовного сословия, к числу которых Сковорода не принадлежал. Немало значило и то, что Самуил Миславский был человеком очень умным, влиятельным и деятельным.