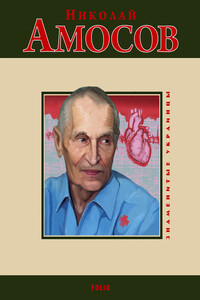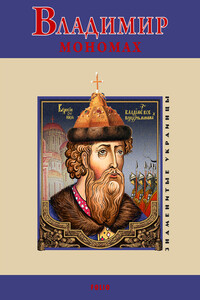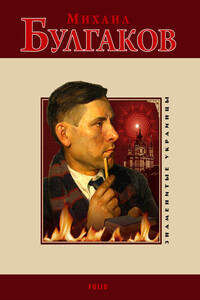Григорий Сковорода | страница 19
Прибыв в Харьков, философ сразу же оказался в центре внимания местной публики. Сковорода, как всегда, был ни на кого не похож ни своими мыслями, ни своими манерами. Действительно, одевался он со вкусом, но очень уж просто; ел только зелень, фрукты и молочные блюда, да и то лишь после захода солнца; не употреблял ни мяса, ни рыбы; спал не более четырех часов в сутки; вставал до восхода солнца и, когда погода была хорошей, обязательно отправлялся за город, чтобы прогуляться на свежем воздухе среди роскошной зелени… Этот человек – всегда веселый, бодрый, подвижный, словоохотливый, одинаково учтивый к людям разного положения, «имел набожество без суеверия, ученость без кичения, обхождение без лести».
Итак, Сковорода, как и когда-то в Переяславле, переступил порог класса поэтики. На этот раз у него было тридцать девять учеников, подавляющее большинство из которых – сыновья слободского духовенства, трое – из казацкой старшины, а двое – из простых казаков. Судя по всему, он был довольно-таки строгим и требовательным учителем. По крайней мере в конце учебного года только немногим более половины его учеников, а точнее – двадцать один, получили оценку «понят», а остальные – «не понят». Сковорода оценивал не столько знание поэтического творчества, сколько способность ребят к учению, их природное дарование. Он и в дальнейшем будет выводить такие же оценки-характеристики, только они будут гораздо более цветистыми. Если попробовать расположить их от наивысшей к самой низкой, то картина будет приблизительно такой: «весьма остр» – «остр» – «очень понят» – «гораздо понят» – «весьма понят» – «понят» – «годен, понят» – «кажется, понят» – «не очень понят» – «не непонят» – «не негоден» – «кажется, не годен» – «непонят» – «туповат» – «весьма непонят» – «туп» – «очень туп» – «негодница» – «самая негодница» – «самая бестолковица».
А еще – в конце того же учебного года Сковорода написал басню о Волке и Ягненке, переработав на свой лад всем известный эзоповский сюжет: в народе даже ходила присказка: «Баран, не мути воду волку», а в школе философы использовали басню как пример софистических силлогизмов. «Этой ошибкой, – говорил, допустим, учитель Сковороды Георгий Конисский, читая курс логики, – грешит самое обвинение Волка против Ягненка у Эзопа: «Ты пьешь тогда, когда и я пью, то есть мутишь мне воду». У Сковороды смышленый Ягненок просит Волка сыграть ему на флейте модный менуэт, чтобы он хотя бы перед смертью мог немного потанцевать. Сначала Волк только глаза вытаращил от удивления, ибо какой из него ей-богу музыкант, но потом все-таки решил уважить Ягненка и начал играть. И тут откуда не возьмись появились собаки, напали на «бестолковицу»-Волка, а «весьма острый» Ягненок спасся. Свою басню Сковорода завершил такой моралью: