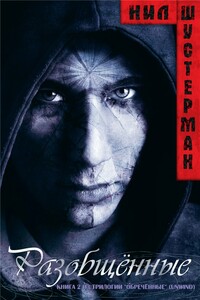Разделенные | страница 76
Хайден никогда не упускает шанс пошутить насчет руки, доставшейся Коннору после взрыва. Рису это раздражает, потому что она считает, что есть вещи, над которыми шутить нельзя. Хотя бы потому, что иногда она замечает, что Коннор смотрит на руку с непонятным выражением, от которого ей становится страшно. Как будто собирается вытащить топор и отрубить ее при всех. Но, кроме руки, у него еще и глаз чужой, хотя и идеально похожий на его собственный. Чей это глаз, никто не знает. По крайней мере, он не имеет над ним никакой власти, в отличие от руки. С рукой Роланда все иначе. Она, как тяжелая длань судьбы, крепко держит Коннора за горло.
– Боишься, что эта штука может взять и укусить тебя? – спросила она однажды, когда Коннор, по обыкновению, разглядывал татуировку с изображением акулы. Коннор тогда вздрогнул и даже слегка покраснел, как будто она застала его за каким-то неприличным занятием. Потом взял себя в руки.
– Не-а. Просто пытался представить себе, когда и почему Роланд мог сделать себе эту глупую татуировку. Может, если когда-нибудь встречу человека, которому достались клетки мозга, хранящие информацию об этом, узнаю, – сказал Коннор и, развернувшись, ушел.
Если бы не ежедневные сеансы массажа, Риса решила бы, что Коннор ее совсем забыл. Но даже когда он приходит, чтобы сделать ей массаж, все теперь не так, как раньше. Кажется, он просто заставляет себя делать это. Как будто единственная причина его ежедневных визитов – обещание, которое он дал самому себе, а не подлинное желание побыть с нею.
Углубившись в мысли о Конноре, она сбивается и пропускает аккорд – в том же самом проклятом месте, в котором ошиблась в день судьбоносного слушания, приведшего ее в заготовительный лагерь. Риса рычит от злости и убирает пальцы с клавиш. Затем вздыхает и продолжает играть – и звуки музыки передают ее чувства так же ясно, как если бы она пожаловалась вслух всему лагерю по радио «Свобода Хайдена».
Больше всего ей не нравится чувствовать, что ей не все равно. Риса всегда умела позаботиться о себе, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Когда она жила в государственном интернате, перед ней, как и перед всеми остальными, стоял выбор – либо спрятать чувства под многослойной невидимой броней, либо дать сожрать себя живьем. Когда же она разучилась контролировать эмоции? Может быть, когда ее заставляли играть на крыше, пока внизу по дорожке шел в Лавку Мясника очередной несчастный? А может, когда она решила, что предпочтет инвалидное кресло и неизлечимую травму возможности пересадки спинного мозга, принадлежавшего здоровому, но не избежавшему разборки ребенку? Или еще раньше, когда она поняла, что, наперекор всем доводам разума и здравому смыслу, влюбляется в Коннора Лэсситера?