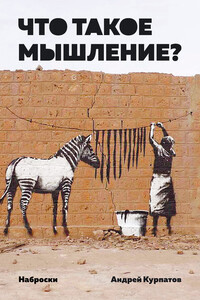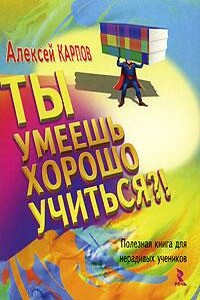Пространство мышления. Соображения | страница 86
Попытаюсь объяснить еще раз, чуть иначе, эту специфическую особенность «специального объекта».
С одной стороны, мы, конечно, имеем некое представление о «другом человеке» и не испытываем с этим никаких проблем: нам удобны наши представления (нарративы), потому что они нам все объясняют, благодаря их «логичности» нам все становится понятно, и мы успокаиваемся. Теперь мы как бы «знаем», как этот «другой человек» должен себя вести, что думать, как реагировать, что чувствовать и так далее. Грубо говоря, на всякого «другого человека» у нас есть нарратив, и мы считаем, что он сам и есть этот нарратив, таким образом, реального человека (способного вести себя непредсказуемо для нас – так, как ему заблагорассудится) в нашем а-ля шрёдингеровском ящике нет – «кот», можно сказать, «мертв».
С другой стороны, мы имеем необходимый опыт, разоблачающий эту нашу наивную уверенность в собственной способности точно описывать реальность «другого человека» и верно предсказывать его поведение в любых ситуациях. Так что мы на каком-то заднем плане своего сознания способны сохранять критическое отношение к собственным представлениям, допуская, что, возможно, по крайней мере, в каких-то ситуациях «все пойдет не так», как мы себе это представляем. То есть мы и «не знаем» (как оно все случится), а потому реальный человек в нашем ящике пусть и гипотетически, но есть, то есть «кот», вполне возможно, еще и «жив».
Теперь посмотрим, как это работает. Допустим, я нахожусь в неких партнерских отношениях с каким-то человеком и полагаю, что если я окажусь в психологически затруднительной для себя ситуации, то он меня поддержит и словом, и делом – в общем, поступит как настоящий друг[72]. Иными словами, у меня есть в запасе очень неплохой нарратив на случай, если что-то в моей жизни пойдет не так, – плечо друга поддержит меня. И вот это «что-то» происходит, что-то и вправду идет не так, как бы мне того хотелось, и в ситуацию я попадаю по-настоящему затруднительную. Партнер, как мы с ним и договаривались, оказывает мне необходимую помощь, но я вижу, что он делает это с внутренним неудовольствием, как-то натужно, словно одалживает меня – в общем, не по порыву души, а просто потому, что обязан, потому, что «он друг», «он партнер» и «мы договаривались». Что ж, мой красивый и такой естественный, казалось бы, нарратив оказался чистой воды блефом.
Еще раз: пока в рассматриваемом нами примере мой воображаемый партнер не является во мне «специальным объектом», поэтому естественно, что его поведение воспринимается мною как «неправильное» – «черствость», «жестокость», возможно, даже «предательство» (как в «Дневнике Бриджит Джонс»: «Он не поддержал меня на дипломатическом банкете!»). В моем нарративе всё должно было быть по-другому! Он должен был хотеть прийти мне на помощь, а не делать это по принуждению наших с ним взаимных обязательств – «в конце концов, мы же друзья!». При этом сам партнер, вероятно, сильно недоумевает, глядя на то, как я пышу недовольством, полагая, что он все свои обязательства передо мной выполнил, а я, хотя именно я и поставил его в ситуацию, когда ему нужно было что-то для меня делать, не демонстрирую безграничную и чистосердечную благодарность