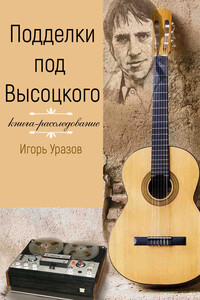Мать Мария | страница 11
V
Шлем воина, – меня венчал клобук.
Поэма «Духов день». 1942 г.
Елизавета Юрьевна пророчествовала о себе с ранней юности. Она была уверена, что ее ожидают «мучения, мытарства, мучительная смерть и сожжение»[2]. Поэтому с молодости считала, что должна быть готова к испытаниям. Как необыкновенно чуткий человек, она до времени чувствовала приближение роковых времен и всегда на себя брала ответственность за их преодоление.
Как в 14-м году она надела вериги, так и в 1931 г. она знала, что «монашество – ее «военное дело», ее брань за любимых братьев против бесчеловечности, жестокости и страха. Ей нужны были силы, чтобы выстоять в дни грядущих печалей. Силы же дает Отец. Надо быть к Нему ближе.
Нарекли ее Марией «в честь Марии Египетской. Митр. Евлогий сказал на ее постриге слово: называя ее Марией, он думал о том, что, как Мария Египетская ушла в пустыню к зверям, так она идет в своем монашестве в мир, к людям, и к злым людям тоже, с которыми еще труднее, чем со зверьми»[3].
«После пострига «полагается» (что бы сказала м. Мария на это слово! Она его не выносила) 3 дня уединения. Ей его создали, поместили в комнату, которая тогда пустовала в Богословском институте… Она сидела очень счастливая, читала, вышивала…»[4].
Митр. Евлогий сказал К. Мочульскому в то время: «Вот мать Мария постриглась и с тех пор вся сияет».
Итак, она звалась теперь матерью Марией, матушкой, перед этим миром и всему миру была матерью. Путь материнства – ответственности, заботы и смирения – отныне стал ее названным путем.
Еще в 1927 году ею была опубликована статья «Святая земля», в которой говорилось о путях преображения земного бытия, о материнстве и сыновстве.
Будущая м. Мария утверждает:
«Предопределенность человеческой жизни заключается в ее причастности к одному из многих путей. Человек как бы «талантлив» к данному пути и бездарен к другому.
Первый шаг – это органическое угадывание предопределенного пути. В выборе его нет свободы, как нет свободы и в выборе своей талантливости.
Зато полная свобода в достижении степеней преображения своего пути.
Человек волен оставить его в первоначальной тьме. И человек может усилиями свободной воли, свободного подвига преобразить его до предела святости».