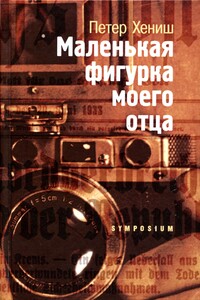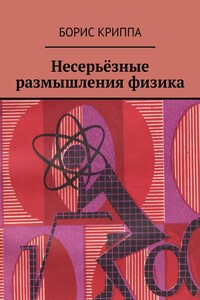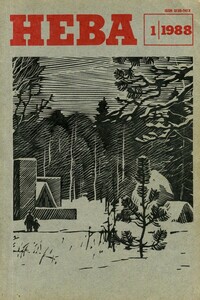Куда ты скачешь гордый конь… | страница 117
– А что? Федор Матвеевич, – по отчеству обратился к нему Яков, подвигая стул и садясь, – Что, генерал-адмирал? Как братцы твои после смерти сестрицы Марфы-то, оправились?
– Да ничего, оправились. Впрочем, Петр и Андрей за бабьей юбкой никогда и не прятались и заслугами своими обязаны не тем, что их сестра в царицах при царе Федоре Алексеевиче ходила, а токмо собственному уму и храбрости, – Апраксин плеснул в стопку.
– Не горячись Федор. Я ж не в укор и не со зла спросил. Вы все братья жизни не жалели, за дело общее. И ты тоже, – Брюс положил ему руку не плечо. Апраксин дернул плечом, но руку не сбросил. Он знал, что подвоха в словах чернокнижника нет, – Значит, молодость вспомнили? Птенцы гнезда Петрова.
Кто ж птенец-то главный в том гнезде был? Уж не сам ли царь? Кукушонок. Яти его мать. Смотри почти всех из гнезда повыпихал…. Так о чем вспоминали-то? Уж, не о том ли как Петруша после смерти Адриана преподобного, патриарха церкви русской – патриарший престол пустым оставил. Этого он не выпихивал, энтот сам упал.
– Нет. Не о том. Нам духовные дела обсуждать не почину, – ехидно съязвил Алексашка.
– Так может, про то, как мы с Османами замирились?
– Нет, мы тут вспомнили, как мы сюда на берега Нави пришли, – Шереметев нарезал каравай огромными, но ровными кругами. – Про Ниеншанц мы вспомнили. Про ту весну, про половодье, про то, как мы по полной воде сюда на лодьях пришли. Ты не маячь Яша. Возьми вот хлебушка, мяса холодного, сядь, чарку опрокинь, – он уложил кусок солонины с салом на краюху ржаного хлеба, подвинул Брюсу. Алексей сверху положил половину луковицы, а Федор поставил рядом чарку. Делали они все это неторопливо, но видно было, что не по холопски, а как равному, притом с любовью, а не по должности. А Шереметев продолжал, нарезая хлеб, – Про первые годы здесь на брегах Нави вспоминали мы. Про время оно.
– Действительно было времечко…, – перед глазами Брюса, да и всех друзей промелькнули те дни.
К Ниеншанцу, как называли этот городок свеи, то есть к крепости Нави, или к Концам как его называли русские, лодьи Петра пришли тогда по большой воде из Нотебурга, из Орешка, прямо ко времени ярмарки. Ярмарка здесь обычно бывала в августе, когда отовсюду съезжались к устью Нави купцы. Из Олонца, Тихвина, Ладоги, аж из самого Новгорода привозили сюда разнообразные товары: мед, пеньку, шкурки, скот и кожи, рожь, воск и поташ. Со стародавних пор на Концы везли по рекам все, что рождалось и делалось в Залеской Руси с одного конца, а по морю, мимо Стрельни, где стояла сорока с лихими сорочинскими мытарями – с другого конца, везли все, что рождали и делали закатные земли. Вот так все обозримое время и возили. С Залесья на Концы, и со Стекольного и Ганзы на Концы. Они и для востока были Концом и для запада – Концом. Городок тогда еще получил собственный герб – льва на задних лапах, символ Империи, с мечом в лапе, охраняющего воды двух потоков. Кто-то говорил, что это он охраняет торговые потоки с восхода солнца на закат, и с заката на восход, но Посвященные тихо шептали, что это он хранит место, где воды Нави, пресекаются с водами Яви и есть там, совершенно точно есть, Врата из одного времени в другое. У ярмарки той, всегда приветливо распахнув ворота, стояли ямской и постоялый дворы. Да еще вскорости вкруг нее обосновался ремесленный народ, как впрочем, и вокруг любой ярмарки. Мало ли кому, надо лошадь подковать, баркас просмолить, упряжь подправить, да, в конце концов, сапог подлатать, или зипун зашить.