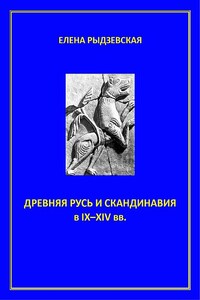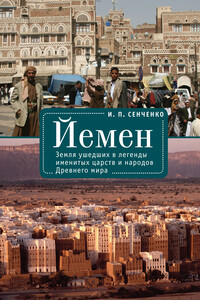Тайны петербургских крепостей. Шлиссельбургская пентаграмма | страница 49
И он выжил, Несмотря на то, что все эти годы харкал кровью и, казалось, неминуемо должен был погибнуть.
Издатель качнул тяжелой, насыщенной воспоминаниями головой и пустым взглядом уставился на руку, просунутую в открытое оконце в двери. Рука подавала книгу. Книгу на древнееврейском. И вновь нахлынули воспоминания…
В большом крепостном дворе, где стояла новая тюрьма, на одной из прогулок к нему подошел тюремный унтер-офицер.
– Если я не ошибаюсь, Морозов Николай Александрович, осужденный по делу общества «Народная Воля»?
– Осужденный по процессу 20-ти, приговорен к бессрочной каторге, которую отбываю в Шлиссельбурге, – растерявшись от обращения по имени отчеству и вообще от обращения к нему, ответил Морозов.
– В тайном обществе имели кличку «Воробей»? – полуутвердительно спросил унтер.
– Да, – еще больше растерялся узник, но не от осведомленности офицера, а от его обращения на «вы».
Со стороны они выглядели весьма комично. Еще бы. Представьте только картину: элегантный, затянутый в мундир унтер-офицер, по выправке и повадкам которого было видно, что он из бывших разжалованных дворян, что, в общем, не в диковинку и в политических тюрьмах, где в качестве тюремных надзирателей предпочитали брать бывших дуэлянтов, бретеров и прожигателей жизни, лишившихся чинов и званий за свои похождения. (Врагов отечества и смутьянов лучше было доверять таким). А рядом с ним колоритный узник.
В тюрьме, где все серо и однообразно, где видишь одни и те же лица и слышишь, в конце концов, все те же речи, добрый и веселый собеседник, пусть и с другой стороны баррикад – сущий клад. Морозов в нескладном арестантском халате, обвешенный, во избежание простуды, какими-то тряпочками и увенчанный серой шапкой с несуразным доморощенным козырьком, всегда вносил оживление и смех там, где появлялся с первых дней его перевода в крепость из Алексеевского равелина.
В заточении, когда пропала возможность всякой практической деятельности, Николай, отрешаясь от тяжелой действительности, сразу погрузился в работу, давая свободу мыслительному процессу. В тиши равелина в нем проснулся мыслитель, и тогда же у него в уме зародились основные идеи по вопросу о строении вещества, о строении мира о мироздании. Но в равелине не давали письменных принадлежностей, и вся работа мысли оставалась в голове. А главное, в равелине не было общения даже со стражей. Поэтому он тогда потянулся к унтеру, как росток, вынесенный из темного подвала, тянется к свету. Книги, вот что было ему надо, как свет ростку. Книги. И он сделал шаг к общению. Шагнув к собеседнику, будто в прорубь в лютый мороз.